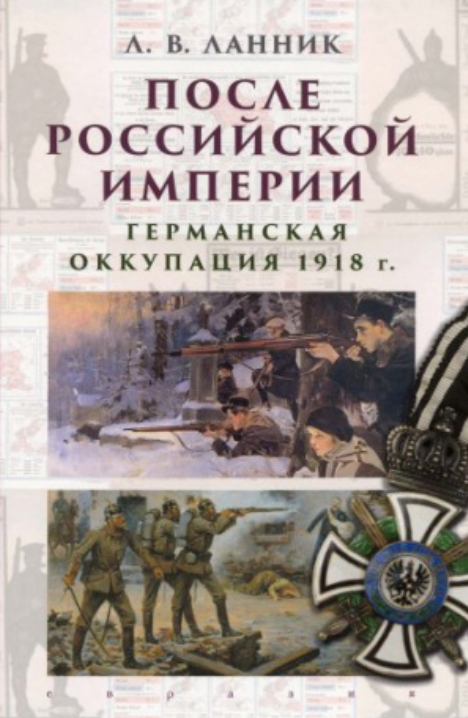
Ланник Л.В. После Российской империи. Германская оккупация 1918 г. СПб. 2020. 528 с.
Смелость, с которой автор называет тему германской оккупации на Востоке «настолько мало изученной, что ее можно назвать белым пятном в исторической науке», поначалу вызывает неподдельное удивление. Услужливое подсознание тут же предлагает такие стереотипы, как рождение Красной Армии в боях под Псковом и Нарвой, убийство графа Мирбаха и заговор левых эсеров, призванный порвать наконец-то с позорным Брестским миром. Ну и наконец, светлые образы Розы Люксембург и Карла Либкнехта – последнего из них советская пресса в последние дни германской оккупации называла «немецким Лениным».
Нетрудно заметить, что все эти образы смотрят из Москвы на Берлин, показывают доминирование в нашей исторической памяти отечественных сюжетов. Это нормально для памяти, но недостаточно для научного знания. Ланник не только делает «оккупантов» субъектом своего исследования, но и вписывает сам факт оккупации в историю российско-германского военного противостояния, которое отнюдь не закончилось с вынужденным переходом Советской России в лагерь «нейтралов» согласно Брестскому миру. Договоренности «верхов» мало что меняли в мироощущении и образе жизни простых обывателей, война буквально «пошла в народ».
И она не закончилась ни с денонсацией Бреста, ни с победой большевиков в гражданской войне. Историки справедливо говорят о «второй Тридцатилетней войне», включившей в себя оба мировых конфликта и формально мирный промежуток между ними[1]. Более спорным представляется тезис о том, что в этот период огромное европейское пространство, оказавшееся между Россией и Германией, было обречено превратиться в «кровавые земли» и стать безвольной жертвой двух диктаторов[2].
Исследование Ланника содержит уникальный материал, дополняющий и корректирующий выводы и гипотезы современной историографии. Иногда параллели между первой (1915-1918) и второй (1941-1944) германской оккупациями (во введении автор делает на этот счет крайне интересные замечания, не разворачивая данную проблематику в основной части, а лишь возвращаясь к ним в эпилоге-заключении) выглядят достаточно провокационно, но не заслоняют справедливости главного тезиса: «Говорить об окончании войны осколков Российской империи с Центральными державами после подписания Брестского мира можно примерно с тем же основанием, как утверждать, что война с Третьим рейхом окончилась для Польши после 2 октября 1939 г.» (С.7).
Книга разворачивает перед читателем картину событий, происходивших на огромном геополитическом пространстве от Заполярья до Закаспия. Автор говорит о возникновении в 1918 г. нескольких подсистем, которые объединяли в себе одно или несколько государств, возникших на окраинах распавшейся Российской империи, и развивались довольно независимо друг от друга. Формальный принцип построения структуры текста (с севера на юг, с запада на восток) превращает главы скорее в самостоятельные очерки, застолбив за автором дальнейший синтез полученных результатов исследования.
Рецензенту хотелось бы увидеть ответ на такие «системные вопросы», как взгляды германского военного руководства на оккупированные территории как поставщика сырья, и в конечном счете – на залог победы в мировой войне. Сюда же можно отнести вопрос о степени учета национальной и конфессиональной специфики населения, попавшего под сапог немецкого солдата, и зеркальное отражение этого вопроса – превознесение оккупантами собственного военного и культурного превосходства в условиях оккупационной повседневности.
Нельзя не снять шляпу перед эрудицией автора, который не оставляет без внимания ни одного сколько-нибудь значимого сюжета. Тот факт, что среди использованных источников есть даже рукописные полковые истории, говорит сам за себя. Рецензенту достался экземпляр книги с набором карт, извлеченных из немецких военных архивов. Они рассказывают о масштабах и динамике оккупации своим особенным языком, который не может повторить никакой текст. Остается ностальгически вздохнуть, вспомнив о том, что когда-то вклейка или набор карт были обязательной частью любого университетского учебника по истории…
В итоге мы видим, что оккупационная политика Германии на руинах Российской империи не была по-настоящему продумана ни до, ни в ходе боевых действий (в отличие, например, от плана Шлиффена). Военная элита страны столкнулась с задачей, решить которую ей оказалось не по силам. Большая игра в «самоопределение народов» по сценарию Генерального штаба обернулась сплошной импровизацией, перетасовыванием военных эмиссаров и армейских корпусов, поддержкой местных марионеток, имена которых не успевали выучить даже репортеры германских газет.
При этом константой оккупационных планов на Востоке выступали мечты о «бакинской нефти» и «украинском хлебе» и «донецком угле». Через четверть века они вновь приведут солдат и офицеров вермахта туда, где бесславно закончилась попытка их предшественников навязать народам распавшейся Российской империи жизнь по немецким канонам.
Другие научные труды из категории «новейших», на которые хотелось бы обратить внимание читателей, также написаны историками-«всеобщниками» и предлагают их особенный взгляд на рубежную эпоху в регионе, к которому в 1917-1918 гг. было обращено пристальное внимание. Это взгляд на революционную Россию как будто извне, следующий за оценками профессионалов, волею судеб ставших свидетелями и отчасти соучастниками драматических событий в нашей стране.
И вот еще одна историческая загогулина: по московским мостовым летом 1918 г. бок о бок прохаживались и германские дипломаты, и сотрудники военных миссий Антанты, которые почти во всей остальной Европе находились по разные стороны фронта. Последним даже разрешалось носить военную форму, и лишь после убийства германского посла графа Мирбаха советское правительство в качестве компенсации «уравняло» представителей обеих воюющих коалиций, введя полный запрет на ношение иностранной униформы.
Об их деятельности до недавнего времени мы знали только из мемуарной литературы. Наиболее известны воспоминания майора Карла фон Ботмера, который участвовал в работе советско-германской комиссии по обмену военнопленными[3]. В последние годы появились фундированные работы, посвященные людям, которые «с той стороны» были вовлечены в ход Российской революции, будь то французские дипломаты в Петрограде, участники «заговора послов» в Москве или английские разведчики в Туркестане. Вместе с представителями большевистского правительства и советскими дипломатами они буквально «сшивали» тот самый рубеж между новой и новейшей историей, о котором шла речь выше.
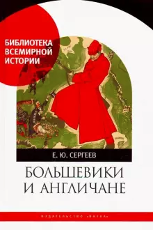
Сергеев Е.Ю. Большевики и англичане. Советско-британские отношения 1918-1924 гг. СПб. 2019. 831 с.
Автор книги, написанной в том числе и на материалах только что рассекреченных архивов британских спецслужб, освещает ключевые моменты двухсторонних отношений рубежной эпохи, будь то английская интервенция на Русском Севере, заговор Локкарта, консультации Красина и Ллойд Джорджа, нота Керзона и письмо Зиновьева, наконец. В отличие от британской внешней политики, сохранявшей традиционный консерватизм и прагматичность, советскую отличали «качели», т.е. постоянная и резкая смена ориентиров и действующих лиц.
К дилемме идеалов мировой революции и защиты национальных интересов автор добавляет третий императив, определявший внешнюю политику большевиков: «стремление к интеграции в Версальско-Вашингтонский международный порядок, хотя бы на принципах мирного сосуществования» (С. 534).
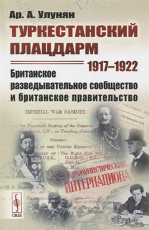
Улунян А.А. Туркестанский плацдарм, 1917-1922: британское разведывательное сообщество и британское правительство. М. 2019. 704 с.
Достаточно непривычный термин «разведывательного сообщества» раскрывается автором в институциональном ключе, как имперские и региональные учреждения, поставлявшие Лондону аналитические материалы для обоснования и проведения курса на противодействие формированию в центрально азиатском регионе антибританского плацдарма. Однако текст насыщен живыми людьми, которые, в том числе и рискуя своими жизнями, обеспечивали решение поставленных задач (к большому сожалению, в отличие от монографии Е.Ю. Сергеева в книге нет именного указателя).
В работе четко выделен рубеж, связанный с приходом к власти в России партии большевиков, которая уже в первых декларациях противопоставила «империалистических хищников» метрополий и своих потенциальных союзников – «мусульман Востока». Пути мировой революции приобрели в регионе уникальную этно-конфессиональную окраску (С. 85). Вызов Москвы привел к тому, что «туркестанский плацдарм приобретал в контексте общей политики Британии на Востоке определенную самостоятельность» (С. 667). Остается добавить, что многие аналитические оценки и институты, появившиеся в то время, пережили и Вторую мировую войну, и распад колониальной системы.
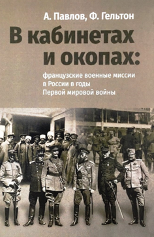
Павлов А.Ю., Гельтон Ф. В кабинетах и окопах: французские военные миссии в России в годы Первой мировой войны. СПб., 2019.
В книге проанализированы различные аспекты взаимодействия между русской и французской армиями в условиях Первой мировой войны. Подробно рассмотрена деятельность специальных миссий, исследована французская пропаганда в России, а также судьба французской военной миссии при советском правительстве.

Галкина Ю.М. Французская военная миссия в России в годы Первой мировой войны. Дис… к.и.н. Екатеринбург, 2018.
[1] Хобсбаум Э. Эпоха крайностей. Короткий двадцатый век 1914-1991. М., 2004. Глава первая: «Эпоха тотальной войны».
[2] Snyder T. Bloodlands. Europe between Hitler and Stalin. New York, 2012.
[3] Ботмер К. С графом Мирбахом в Москве. Дневниковые записи и документы за период с 19 апреля по 24 августа 1918 г. М., 1996 (оригинал опубликован в 1922 г.).
Добавить комментарий