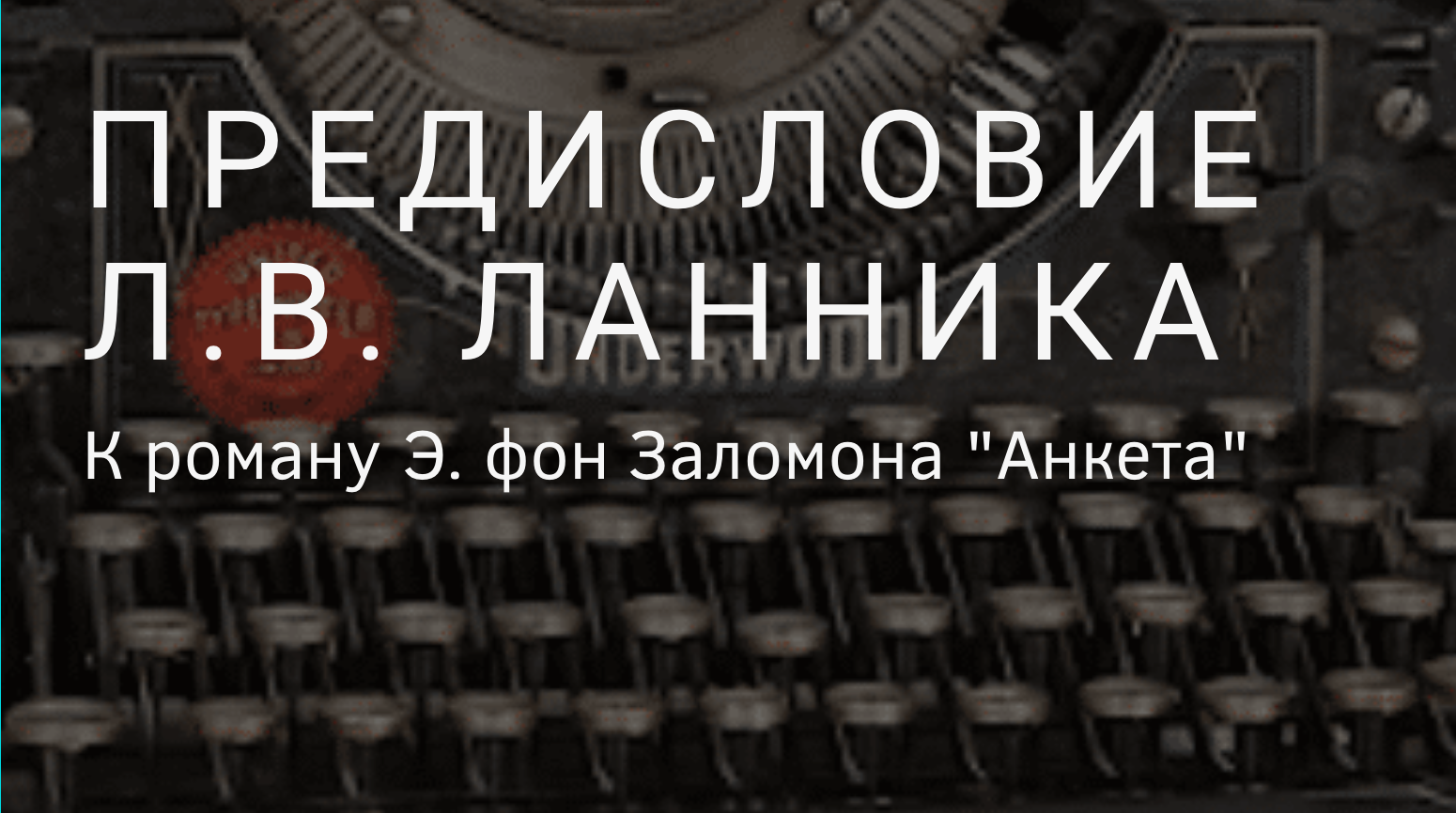
Уважаемые читатели сайта, с разрешения автора публикуем предисловие к.и.н., доцента Л.В. Ланника к переводу романа Э. Фон Заломона «Анкета».
Выходные данные книги:
Эрнст фон Заломон. Анкета / Пер. с нем. Л. Ланника. СПб.: Владимир Даль, 2019. — 927 с. ISBN: 978-5-93615-208-5
Эта непривычно увесистая по нынешним временам книга должна была быть и еще толще: из 1200 страниц первоначального манускрипта после непростых дискуссий с редактором в 1950—1951 гг. для публикации было отобрано «всего» 8оо. И все же едва ли повернется язык назвать этот объемистый отчет за полвека о жизни целой страны «сокращенным изданием». Объем книги вполне гармонирует и с манерой изложения: одним из первых результатов при прочтении становится ощущение, что к этому автору необходимо сперва привыкнуть. И это несмотря на то, что последний — прекрасно осознавая, как именно он пишет, и вполне успешно пользуясь этим — выступает главным образом как рассказчик, а этот «полуписьменный» жанр в XXI в. посредством Интернета приобрел особую популярность. Поэтому порой, при особенно удачных пассажах в романе, возникает ощущение, что лучше всего «Анкета» воспринималась бы в рамках аудиокниги.
Автором «Анкеты» является человек с чрезвычайно насыщенной биографией, хотя он умудрился прожить в эпоху тотальных войн, не участвуя ни в одной из двух, но вовсе не потому, что уже в молодости стал дезертиром или пацифистом. Первым он не был никогда, хотя ему было из-за чего скрываться от властей, а последним стал лишь ближе к старости, и не потому, что кардинально изменил взгляды, а вследствие последовательной эволюции своих националистических убеждений. Представляется, что именно такое сочетание вполне достоверных черт его биографии и идеологических предпочтений, кажущихся несовместимыми, и ставит в тупик всех исследователей, кто так любит орудовать категориями «премодерн — модерн — антимодерн» и т. п.
Заломон открывает отечественному читателю Германию «рядом с Гитлером и параллельно ему» так же, как мы могли бы и должны были бы открывать иностранцам Россию соответствующей эпохи, которая вовсе не была сплошь большевистской и не сводилась к последствиям действий Ленина и Сталина… Впрочем, к настоящему моменту книги Заломона могли бы «открыть Германию» и тем, кто в ней живет, и отнюдь не иммигрантам, а именно немцам. Ведь читателю предстает страна, не только некогда существовавшая, но и та, какой ФРГ могла бы стать. На фоне современного массового убеждения в безальтернативности избранного Аденауэром пути развития мысли и эмоции в этой книге могут и коренному жителю Берлина, Мюнхена, Кёльна, Гамбурга etc. показаться по меньшей мере новыми и небезынтересными.
В вечных размышлениях об актуальности произведений, написанных почти 70 лет назад, на память приходит отзыв одного из исследователей творчества Заломона: «…у него… неэгоистическая картина мира, находящаяся в резком противоречии со всеми неолиберальными лозунгами».[1] По нынешним временам — весьма нечастое сочетание, что, вероятно, вполне смогут признать читатели самых разных и литературных, и политических предпочтений.
С его (или цитируемыми им) сентенциями о судьбе Германии и отдельных ее по-разному примечательных граждан можно только согласиться… Обращают на себя внимание и несколько его мрачных пророчеств о будущем антигитлеровской коалиции и «прозападной» Германии, сохранившие актуальность, а то и сбывшиеся сегодня. Как отмечали его биографы, в послевоенной Германии Заломон первым продемонстрировал всю разницу между мнением публики и мнением публикуемым, что и гарантировало его «Анкете» статус первого бестселлера после появления ФРГ.
Только такой объемный роман и может позволить взглянуть на действительно интересный, насыщенный период мировой истории — межвоенное двадцатилетие или же на «новую Тридцатилетнюю войну» 1914—1945 гг. — глазами не только самого автора, но и абсолютно разных людей, принадлежащих к различным социальным, культурным, политическим слоям общества того времени.
Интересующиеся историей нацистского движения, фрайкоров, как право-, так и леворадикального движения в Германии найдут в этой книге много эксклюзивной информации, причем полученной автором зачастую из первых рук, в том числе из собственных. Для читателей, воспитанных на советской версии истории Третьего рейха, один только заломоновский нехронологический, на первый взгляд, но последовательный рассказ о возвышении нацизма станет изрядной неожиданностью. Но автор «Анкеты» вовсе не стремился оправдываться или отмежеваться: поставленные им самому себе задачи были куда масштабнее, и первой из них стало возвращение к публичному осмыслению недавней истории, т. е. к тому, что в Третьем рейхе заменялось небогатым набором апробированных тезисов. Лишь в послевоенной Германии, в ФРГ, наступил момент для первых попыток создания истории эпохи Веймарской республики, и у истоков ее историзации с полным основанием можно поставить и Эрнста фон Заломона. Чуть ли не единственным аналогом (из недавно изданного на русском языке), где на основе личного опыта были бы описаны те же несколько эпох в истории Германии, является, пожалуй, лишь пользующаяся огромной популярностью на родине писателя книга С. Хаффнера «История одного немца».[2]
Разумеется, читатель, жаждущий массы подробностей и специального анализа и без того прекрасно описанных праворадикального террора, вспышек гражданской войны в Руре, убийств ФЕМЕ, Пивного путча, «ночи длинных ножей», будет несколько разочарован, его можно только переадресовать к соответствующим специальным монографиям, исчерпывающе разбирающим фактологию данных событий. Разве что приходится оговориться, что эти труды никогда не будут переведены на русский язык, да и в российских библиотеках они встречаются не так уж часто…
В современных работах по истории литературы Третьего рейха Заломон упоминается не только как один из второстепенных авторов, «так и не переведенных в первостепенные». Его романы недаром цитируются как источник сведений о других крупных представителях немецкой словесности всего межвоенного периода.[3] Более того, Заломон, не взирая на весь скепсис историков в отношении достоверности художественной литературы, до сих пор цитируется в самых авторитетных работах по истории фрайкоров, Веймарской республики и истории повседневности и культуры Третьего рейха. Пересказанные им истории нередко имеют силу аргументов.
Книги Заломона — не только «Анкета» как действительно самое удачное его произведение, но и в том числе его почти профессиональное историческое исследование о фрайкорах — переиздаются и по сей день. От судьбы забытых фолиантов «Анкету» хранит, одновременно подчеркивая ее востребованность, и публикация ее в виде электронной книги, и не только на немецком языке. За последние 5 лет его романы выходили во Франции, Испании, Италии, Великобритании, хотя спрос современных читателей на дотошные описания былых времен в сотни страниц сейчас ажиотажным не назовешь.
Поразителен, но одновременно и весьма показателен тот факт, что романам профессионального сценариста Заломона не слишком везло на экранизации. И если ранние его книги через несколько десятков лет действительно были бы интересны отдельными эпизодами истории Веймарской республики, а потому продюсеры могли счесть их не востребованными современным и непременно массовым зрителем,[4] то вот про «Анкету» такое сказать сложно. Особенно с учетом блестящего успеха многих книг и фильмов, отражающих повседневность германского общества в годы Третьего рейха, достаточно назвать хотя бы всемирно известный «Жестяной барабан». «Анкета» же удостоилась лишь телевизионной экранизации в 1980-х гг., не снискавшей особенной популярности и ныне почти забытой.
И все же внимание к нему не иссякло, пусть и в основном в профессиональном сообществе. Личность Заломона и его творчество слишком важны и востребованы для иллюстрации трагедии целого поколения национал-революционеров донацистского периода. Как писатель, дважды становившийся сенсацией в мире немецкой литературы — в конце 1920-х гг. и затем в 1950-х гг., то есть как раз «Анкетой», вышедшей после более полутора десятков лет перерыва, он удостоился и специальных исследований. А диссертацию о нем даже в 1994 г. не позволили защитить в Гейдельбергском университете по подчеркнуто идеологическим причинам, ведь флер террориста и ультраправого оказался куда устойчивее славы первого борца за восстановление национального немецкого духа, в том числе потому, что первый из них не требует чтения сотен страниц весьма извилистого порой текста.[5]Лишь сравнительно недавно стали появляться достаточно объемные его биографии, конечно, историко-политологические,[6] но не забыт он и германистами.[7]
Заломон — явный маргинал по целому ряду параметров: фамилия, дворянство, связи с ультраправыми, тюрьма, профессия, уровень жизни… Его биография едва ли не германская версия трагедии «бывших людей». Судьбы представителей этой прослойки, лишившихся привычных, пусть и на деле почти формальных привилегий, давно уже стали предметом научного исследования,[8] однако вряд именно Э. фон Заломон может быть вписан в рамки полученных выводов и выявленных тенденций. Да и сам он тратит немало иронии в адрес и своего дворянского звания, и вообще по отношению к многое потерявшему после Ноябрьской революции «благородному сословию».
При прочтении построенного на внимании к деталям повествования возникает стремление подробнее узнать о семье Заломона, хотя, казалось бы, он написал об этом десятки страниц. Его сложно упрекнуть в немногословности, и все же он, как бывалый подследственный, умолчал о многих важных поворотах в своей судьбе.
Из кажущегося поначалу излишне длинным описания читатель узнает, что довольно разветвленный род Заломонов — потомки французских нотаблей, т. е. «дворянство мантии», лишь постепенно ставшее наследственным. Имея специфическую по самому звучанию фамилию Заломон, при игнорировании своего дворянского происхождения, т. е. при отказе от непременного «фон», автор «Анкеты» тут же рисковал быть принятым за еврея (см. его ответ на вопрос 2), что вызвало бы «в обществе» вполне конкретную реакцию. Более того, даже приставка «фон» могла и не освободить его от новой волны снобизма, так как и «фон Заломон» сочли бы лишь следствием пристрастия последнего кайзера Вильгельма II к аноблированию своих приятелей из разбогатевших евреев, что случалось за годы его правления (1888—1918) достаточно часто.
Заломон целомудренно не вдается во многие болезненные подробности своей семейной истории, однако недвусмысленно дает понять: во всем и всегда после 1918 г. ему приходилось рассчитывать только на себя. Отец же оставил ему по наследству якобы лишь прекрасную память блестящего криминалиста. Разумеется, о том, что он станет литератором, долгое время не могло быть и речи, однако в Германии вплоть до середины 1918 г. многое казалось невозможным и невероятным, слишком многое из того, что стало явью буквально через несколько месяцев. Если бы он дал себе труда написать коллективную биографию братьев Заломонов, то эта книга должна была бы стать по меньшей мере 4-томной сагой.
Заломон из «незнаменитого», но во многом уникального «поколения — 1902»,[9] что им вполне осознавалось и было удостоено непременных и вполне в его манере (само)ироничных комментариев. Именно этот «призыв» составляли те, кто опоздал на войну, и даже всего лишь в запасные части, что позднее резко отличало их от старших братьев, почти сверстников, прошедших ад окопных схваток, изменивший их навсегда. Так, Заломон никогда не писал о Первой мировой, не считая себя вправе и в состоянии сделать это, а вот всемирно известные ветераны ее Э. Хэмингуэй и Э. М. Ремарк были старше его всего на 3—4 года. Но эту трагедию не мог бы обойти молчанием ни один человек межвоенного времени, а для каждого немца она была «незримым участником любой беседы», как писал Заломон, правда, о другом известном явлении в истории Германии.
Для немецких националистов нового поколения чрезвычайно болезненным являлся осознанный ими только что факт, что они не приняли участия в самом важном этапе становления единой германской нации. Объединенный Бисмарком «железом и кровью» Второй рейх смог по- настоящему преодолеть исконный партикуляризм только в траншеях Первой мировой, да и то лишь в известных пределах. Разумеется, того факта, что Веймарская республика стала еще одним этапом интеграции Германии, а не только символом ее поражения и потерь, ни Заломон, ни его единомышленники не могли признать. Автор «Анкеты» даже возмущался утратой прусской самостоятельности, хотя должен был бы как раз приветствовать этот важнейший шаг к единению нации.
Позднее эти же «рядовые необученные», слишком молодые для Первой и слишком потрепанные для Второй мировой, лишь в самый последний момент оказались в вермахте и в фольксштурме, ведь когда Германия вынуждена была призвать в войска даже явно физически к тому негодных, Заломону и его сверстникам было уже за 40… Разумеется, это мини-поколение сполна испытало и голодную военную и послевоенную юность, и столь нестерпимый для совсем еще не познавших жизнь юнцов «крах всего и вся», как воспринимали Ноябрьскую революцию в Германии. Как это всегда бывает в периоды резких перемен и крупных социальных трагедий, вся общественная жизнь Веймарской Германии расслоилась на не всегда совместимые, а потому конфликтующие культурные сферы отдельных возрастных групп,[10] часто обвинявших друг друга во всех грехах. Было ли «потерянным» поколение Юнгера и Ремарка — вопрос спорный, но вот Заломону и его сверстникам из всех стран-участниц, кроме России, где продолжали воевать еще так долго, чтобы там хватило и на 1902 г. рождения, вполне можно было бы приклеить ярлык «поколения растерянных, потерявшихся».
Почти доучившийся на фенриха кадет Э. фон Заломон стал непосредственным участником многих знаковых для истории межвоенной Германии политических событий. Он поучаствовал в боях с ультралевыми в Берлине, в достойных ландскнехта походах в Прибалтике, в Капповском путче, в борьбе с поддерживаемыми французами рейнландскими сепаратистами, оборонял Силезию в ходе конфликта с поляками, но и на этом не остановился. Не пошел служить в рейсхвер, т. е. «ноябрьским преступникам» и «еврейской» Республике… Это навсегда сделало его романтиком постреволюционного хаоса, неразберихи 1919— 1923 гг., почти как персонажи Ремарка в «Возвращении» и «Черном обелиске». Затем была эрхардтовская организация «Консул», куда он пришел вполне сознательно, а не просто по инерции, как бывшие сослуживцы и подчиненные вожака распущенного фрайкора, далее — соучастие в убийстве знаменитого В. Ратенау и других акциях террористов «справа», тюремный срок в 5 лет 20-летнему юноше, а потом и повторное следствие…
Разумеется, ни один российский читатель не сможет пройти мимо факта, что и для Заломона его пребывание в тюрьме — а затем и еще несколько отсидок под следствием — стало отправной точкой, поводом и чуть ли не «производственным импульсом» на пути в большую литературу. Однако к чести Заломона следует сказать, что амбиций стать новым Достоевским он не питал. Это притом, что ему более чем хватило бы собственного опыта и для германских «Бесов», и для «Записок из Мертвого дома»… По иронии судьбы Заломон провел за решеткой, не считая 1923 года, чуть ли не самый спокойный период в истории Германии эпохи мировых войн, т. е. благополучие наступило именно тогда, когда он голодал в тюрьме. Это не могло не добавить ему горечи и сарказма. «Исправила» ли его тюрьма, напугала ли навсегда перспективой лишения свободы? Ответ на этот вопрос слишком сильно зависит от симпатий к Заломону, от эмоций, а не от аргументов. Не случайно впоследствии всю жизнь сталкивавшийся с разочарованием тех, кто видел в нем этакого Бланки или жаждал оправданий за кажущееся бездействие, Эрнст пришел к выводу, что история его жизни может быть описана как фарс.
Обстановка эфемерного процветания и эйфории в Веймарской республике, которую застал автор, выйдя из тюрьмы по амнистии рейхс- президента в декабре 1927 г., весьма разительно отличалась от того прискорбного состояния Германии, что довелось ему запомнить, когда его осудили к тюремному сроку в 1922 г. С похвальной самоиронией Заломон смог отказаться от прошлых иллюзий и одновременно ни тогда, ни при нацистах — «гауляйтером был бы, не меньше» — не пытался капитализировать свой болезненный опыт более простым путем, нежели литература. Он, разумеется, скептически отнесся к «золотым годам», ощущая неестественность процветания. И не потому, что был как-то особенно просвещен в экономике, а уж слишком разительным был контраст. Кроме того, для такого идеалиста, как он, подобное «процветание» было скорее помехой, нежели отрадой. Бедность вновь стояла перед всеми братьями Заломонами, и Эрнст, второй из них, решил пойти по тому пути, который впоследствии так или иначе опробовали все четверо. Эрнст представлял свое отношение к будущему ремеслу весьма скромно, а путь в литературу едва ли не случайным, что следует простить ему и оставить как есть, пользуясь заломоновским же заветом «никогда не быть тем, кто портит всю игру»…
В силу многих обстоятельств автор «Анкеты» был знаком с большим количеством ключевых фигур в культуре межвоенной Германии. Именно тогда он оказался в окружении целой плеяды уже заявивших о себе писателей и публицистов, а потому этот период можно назвать периодом его учебы и становления Заломона-литератора. Тем не менее он никогда не был подражателем, хотя и вполне вписывался в одно из поколений и направлений прозы Веймарской Германии.[11] По отношению, например, к Э. Юнгеру, чьим соратником он был несколько лет, Заломон не испытывал излишнего преклонения, хотя бы потому, что его произведения расходились большими тиражами, чем «В стальных грозах», однако признавал интеллектуальное превосходство и авторитет Юнгера. Еще более трезвым и даже подчас ироническим было его отношение и к Ф. Хилынеру, а также к ряду других публицистов и писателей правого спектра. Попробовал Заломон на себе и интеллектуальные кружки, где по его выражению и было изобретено «Сопротивление за чайным столиком». Тогда никакой признательности Веймарской республике за возможность пусть бедно, но свободно и интересно творить и развиваться он не ощущал, а потому сделал многое, чтобы и в «угаре демократии» хоть ненадолго, но оказаться под следствием и в камере.
В романах, которые он как раз тогда и начал писать, Заломон смог показать определенные этапы истории, используя «анекдоты» (в первоначальном значении этого слова) и не вдаваясь в длинные повествования. В те годы он постепенно стал одним из тех, кого уже через несколько десятилетий метко назвали «леваками справа».[12] Однако подробнейшее описание политических взглядов Э. фон Заломона было бы вполне оправдано в предисловии к его ранним романам или в биографии, а вот «Анкета» куда более демонстрирует общественную позицию автора, его философские и даже историософские воззрения, ведь к исходу пятого десятка лет бывший террорист и памфлетист оказался выше практической политики. Такую позицию суждено занять не всякому литератору из бывших активистов. Аналогию творческой судьбе Заломона подобрать очень непросто, хотя, наверное, немало общего можно найти с биографией француза Ж. Бенуа-Мешена (1901—1983). Когда-то этот французский лейтенант участвовал в оккупации Рура, потом посвятил себя германо-французскому сближению, написав 6-томную историю германской армии, потому в 1947 г. был приговорен к смертной казни за коллаборационизм, но помилован, а остаток своей жизни посвятил литературе и истории.
Все то, что касается Германии после 1933 г., в этой книге было написано автором, уже пережившим вместе со всеми своими соотечественниками величайшую трагедию XX в. Это сильно отличает ее от тех книг о нацистском периоде, которые являются литературной обработкой дневников, особенно если последние велись с позиции стороннего наблюдателя. Вряд ли Заломон питал какие-либо иллюзии относительно нацизма, даже если и не был столь прозорлив, как пытается показать post factum. Тем ценнее то, что, ощущая неизбежность крутых перемен на Родине, он не стал отсиживаться в добровольной эмиграции во Франции, а затем в Австрии, а вернулся в Берлин, как раз в январе 1933 г., чтобы присутствовать при том, что тогда называлось «началом национальной революции», чтобы видеть факельные шествия, пожар рейхстага, сожжение книг. Отказавшись к 1933 г. от участия в политических мероприятиях и фактически еще до Второй мировой войны став на путь внутренней эмиграции, он не оставил старых товарищей, некоторые из которых занимали не последние позиции в Третьем рейхе, а продолжил общение с ними, видя и угадывая в них достойных людей, а не просто функционеров. Так, он не отвернулся от Э. Рёма, ни до его убийства, ни после, хотя отказался на него работать, когда тот был еще в зените своего недолгого могущества.
В его рассказах о 1933-1945 гг. вовсе не сквозит желание не заметить нацизм, скрыться от него в повседневности, хотя и такое обвинение перед своей совестью в «Анкете» он поставил и подробно разобрал.
Нет, Заломон был слишком хорошо осведомлен о ходе развития национал-социализма, да и вообще о том, что происходит как в право-, так и леворадикальных кругах, причем зачастую из доверительных бесед. Но приход к власти нацистов, окончательное оформление гитлеровской диктатуры летом 1934 г. фактически положили для него конец поводам далее что-либо обсуждать или следить за нюансами. Отныне Заломону все было или известно, или не имело значения. Позднее именно эту позицию ему ставили в вину, полагая «капитуляцией» и не веря в заломоновское обоснование его политического нейтралитета, хотя он лишь поступил так же, как и многие его коллеги-литераторы.
Шаг за шагом лишившись всего, что связывало его с Берлином, Заломон отдалялся и от повседневности нацистского режима. Об уровне восприятия им действительности Третьего рейха немало говорит тот факт, что постоянно поучаемая им и до преступного наивная в политических вопросах его возлюбленная Илле точно знала, кто такая Ева Браун, а имеющий массу высокопоставленных и прекрасно информированных знакомых Э. фон Заломон — нет…
В годы Третьего рейха ничего, кроме сценариев и военно-исторической публицистики, Заломон не писал, лишь его «Кадеты» вышли уже при Гитлере, но написаны они были еще в Вене. После постепенного закрытия издательства Ровольта и полунищих попыток прожить, занимаясь историей фрайкоров, его как специалиста именно по этой теме позвали помочь написать сценарий кинофильма «Люди без Отечества», посвященного боям с большевиками в Курляндии. Несмотря на отвращение и внутреннее противостояние нацистскому режиму, Заломон смог выжить и продолжать творческую деятельность, но лишь как сценарист. Иногда его интересы совпадали с интересами режима, как, например, в случае с фильмом «Карл Петере» (1941), который получил такую яркую антибританскую окраску, что был впоследствии запрещен оккупационной администрацией. Репрессиям Заломон не подвергался, даже напротив: включался в списки тех литераторов, в сохранении жизни и творческого потенциала которых власти рейха были заинтересованы. Годами вращаясь в по меньшей мере скептически настроенном по отношению к нацистам сообществе мира кино, Заломон именно при критикуемом режиме достиг такого уровня благосостояния, что потом причислить его к категории «извлекавших выгоду» из прихода Гитлера к власти было столь же естественно, сколь и неверно.
Безо всяких приукрашиваемых потом многими попыток участвовать в Сопротивлении (к чему у него были все возможности и поводы) он оставался врагом национал-социализма, последовательным, опасным и поистине принципиальным. Заломон подрывал идейные основы нацизма в куда большей степени, чем его заклятые враги большевики, ибо он развеивал базовые мифы, позволявшие Гитлеру претендовать на лидерство во всем антикоммунистическом и антилиберальном движении, мешал узурпировать наследие праворадикальной героики и пафос борьбы против духа Веймара. Характерно, что те же большевики в этом Гитлеру лишь помогали, хотя бы самим фактом своего существования.
В «Анкете» дано великолепное описание не только собственно агонии нацистского режима, но и куда более продолжительного осознания неизбежности этой агонии — зачастую post factum — теми, кто должен был бы заплатить жизнью за ее продление. Его рассказ о службе в фольксштурме и о «защите крепости „Альпенланд»» — чрезвычайно эффектная иллюстрация и немецкой ментальности, и инерции понятий, и поведения людей в обстановке флуктуации.
Если бы этот роман, вышедший в 1951 г., был переведен на основные европейские языки сразу же, как книги Заломона начала 1930-х гг., то Ханне Арендт, опубликовавшей свою первую крупную работу в том же 1951-м, пришлось бы уступить существенную часть лавров главного теоретика феномена тоталитаризма. В рассуждениях Заломона о характере и складывании нацистского движения в 1920—1930-х гг., в его описании мыслей и действий миллионов немцев, обвиненных затем в поголовном пристрастии к гитлеровским идеям, слишком многое сформулировано столь афористично и точно, что даже самым маститым теоретикам было бы нелегко что-либо добавить или подредактировать.
* * *
Почти все творчество Э. фон Заломона автобиографично, вплоть до самой своей смерти он писал свою жизнь, что имеет и достоинства, и недостатки. Бросается в глаза крайняя эгоцентричность автора, он порой любуется собою, не замечая этого даже через годы и сквозь редактуру, что в чем-то отражает и настроение эпохи в целом. Конечно, Заломон очень старался не повторяться, а потому порой умалчивал о том, что существенно дополнило бы очередной эпизод пестрой картины его жизни, а из-за этого и некоторые столь любимые им детали предстают в не cамом выгодном свете. От романа к роману «укутывает» он описанные: в первых книгах события новыми слоями подробностей, словно решив доплести однажды начатый узор. В «Анкете» он дополнил сказанное з его первых романах тем, что попросту не мог поведать раньше (хотя не раз был отчаянно откровенен в своей публицистике), уже не рискуя отправиться за решетку или, что ему было важнее, не отправить туда же целый ряд близких ему людей в связи с различными перипетиями политической борьбы. Причем это грозило его соратникам не только в Третьем рейхе, но и в Веймарской республике.
Заломон по ходу «Анкеты» никогда не поясняет свои аллюзии, словно подталкивает к прочтению и всех предыдущих его романов, не давая повода упрекать себя в автоплагиате. Разумеется, он не всегда точен, ведь полагался только на свою память и оставался верен своей увлекающейся, эмоциональной натуре. Будь «Анкета» вполне художественным произведением, как новеллы его коллеги и друга Г. Фаллады, все сказанное Заломоном ради красного словца, да и попросту в искреннем мифотворческом убеждении, можно было бы лишь приветствовать. Но «Анкета» не только роман, это чуть ли не следственное дело, подлежащий архивированию «документ эпохи», а потому поправки и комментарии к допущенным неточностям столь необходимы. Они призваны отнюдь не критиковать автора, а лишь помогают его изложению достичь неоспоримой достоверности. Впрочем, об отношении исторической правды к истине, а тем более к литературе и сам Заломон был осведомлен прекрасно…
Главные герои его, казалось бы, автобиографических повествований — все же окружавшие его люди, а не он сам, целая галерея на свой лад чудаков и в то же время «типичных персонажей». Но описание их таково, что перед читателем предстает вся Германия в целом, «от Тильзита до Клеве», ее живая история. «Анкета» — может быть, даже в большей степени, чем того хотел автор, — получилась энциклопедией духовной и политической жизни целой эпохи в истории как минимум нескольких европейских стран.
Заломон не просто представитель «нового национализма», «солдатского национализма», «консервативной революции», «фёлькише» и т. д., т. е. тех течений, которые так любили (и любят) называть «реакционными», «ультраправыми», «предтечами нацизма» и т. д. Да, он — националист, консерватор, прусский кадет, дворянин, уголовник, социалист, хотя и «фронтовой», однако все эти ярлыки на нем корректны лишь при необходимых оговорках. Любое из этих клейм справедливости ради приходится дополнить такой поправкой, что рушится вся система штампованных оценок. Так, например, он — образец националиста, умеющего любить (и сильно) помимо своего и другие народы, даже те, история взаимоотношений с которыми более чем сложна. Э. фон Заломон сильно льстит французам, и еще более баскам, как в этом романе, так и впоследствии… Он — выраженный галломан, но не разумом, а душой. Недаром он впоследствии написал и еще две книги о Франции. А вот американцев Заломон, немало общавшийся с ними в 1930-х гг., после их оккупации Германии полюбить так и не смог, в чем откровенно и признавался. Однако все попытки свести его антиамериканизм лишь к «лагерному психозу» и даже к естественной ненависти к оккупантам не выдерживают критики. Автор «Анкеты», так и не удосужившийся овладеть английским, не мыслил чисто обывательскими категориями. Заимствование американского стиля жизни претило ему еще в годы позднего Веймара, он усматривал в нем угрозу немецкому культурному своеобразию, а то и духовную деградацию в эпоху материальных благ, а потому финальную станцию «долгого пути Германии на Запад» переживал трагически.
И напрасно современные биографы пытаются представить дело так, что Заломон был столь однобок в своем неприятии американцев, что якобы «ни словом не упомянул о преступлениях русских на Востоке».[13] О нет, русскоязычный читатель в отличие от современного немца, пораженного уровнем неприятия освободителей из-за океана, легко заметит и вскользь упомянутый нарицательный образ «Павла Михайловича из Звериноголовской», не пропустит рассказ брата Эрнста фон Заломона Гюнтера о его недолгом пребывании в русском плену и уж, разумеется, задумается об описанной выдаче советским властям бывших солдат РОА и казаков. Еще менее можно «недооценить» описанную автором «Анкеты» судьбу немцев, изгнанных из стран формировавшегося тогда соцлагеря, особенно судетских. Мог ли он, пруссак, пусть и не имевший отношения к остэльбскому юнкерству, но сражавшийся на Востоке сам, быть равнодушен к тому, что теперь граница Германии проходит в лучшем случае по Одеру — Нейссе? К этому неравнодушна была до 1970 г. вся ФРГ, где столь любили напоминать Заломону о его неполиткорректности.
Конечно, Заломон писал в основном о том, что пережил лично, а ему довелось столкнуться с происходившим лишь в западной зоне оккупации. Он очень плохо знал русских, да и вообще славян, а потому зачастую мог сказать о них лишь то, что знала о них вся Германия, усвоившая обрывки кайзеровской и нацистской риторики. Более того, о судьбе возмущения западных немцев русской оккупацией можно было не волноваться, а вот о том, насколько они готовы постоять за национальную гордость перед оккупацией с Запада, стоило изрядно призадуматься. Э. фон Заломон был достаточно проницателен, чтобы ощущать, где лишь шарж, а где карикатура. Он не намерен был ни ненавидеть победивших, ни льстить завоевателям… Именно поэтому в «Анкете» порой встречаются по меньшей мере неожиданные оценки событий, о которых после 1945 г. не принято спорить. Развенчание «аксиом», якобы не нуждающихся в доказательстве, которым Заломон занимался всю свою карьеру публициста, теперь коснулось и основ послевоенного мироустройства, например Нюрнбергского процесса. «Анкета» напоминает о том, как в действительности воспринимались эти события в Германии, только что пережившей самую тяжелую катастрофу в своей истории.
Заломон сохранил и почти невероятное для тогдашней Германии здравомыслие в так называемом «еврейском вопросе». Он не каялся и не замалчивал, а лишь упорно отклеивал с себя и других пропагандистские штампы и досужие домыслы, не становясь на колени за то, чего не совершал, и не давал уклониться от того же тем, кто обязан это сделать. Заломон и после денацификации позволял себе гордиться не только вермахтом, но и частями СС, но ведь и в годы расцвета Третьего рейха он же был готов рискнуть своей жизнью ради коммунистического подполья и сожалел в дни пожара рейхстага, что он в отличие от своего старшего брата Бруно не член КПГ; это он-то — боец фрайкоров, в свои 17 лет некогда лично присутствовавший при расстреле десятков пленных большевиков (или тех, кого таковыми сочли). Он как никто рано осознал, что при такой постановке «еврейского вопроса» нацистами непременно возникнет вопрос уже «немецкий». Наверное, эту фразу на одной из страниц романа можно счесть кратким пересказом истории разделенной Германии.
* * *
Конечно, ряд фигур, описанных Заломоном, словно требует более подробного разговора. Например, Хартмут Плаас, ибо он — действительно та жертва нацистов из ошибочно отождествляемого с ними по советской традиции правого лагеря, на место которой потом будут ставить в ГДР и в современной Германии Заломона, считая его «единственным бывшим фрайкоровцем, кто стал врагом Гитлера». Многое можно было бы рассказать и об Э. Рёме, и о капитане Л. Эрхардте, и об адмирале Канарисе, генералах Секте и Шлейхере, о вожаке «Красной капеллы» Шульце-Бойзене… Иллюстрации к «Анкете» можно было бы брать прямо из учебника истории Германии XX в.
Однако есть в романе и не столь известные, но весьма характерные персонажи. Например, описываемый им с зашкаливающей иронией его тезка, друг и издатель Ровольт был человеком по-своему свободомыслящим и рискованным. Так, в декабре 1932 г. он принял к изданию и уже в начале 1933 г. успел издать книгу, где Шлейхера рисовали коварным серым кардиналом, а Гитлера открыто называли «имитатором Муссолини».[14]
Такие шаги в условиях чехарды рейхсканцлеров были по меньшей мере авантюрными, даже если считать, что Ровольт тогда еще заблуждался относительно происходивших на его глазах событий 30 января 1933 г.
Разумеется, масса вопросов возникает и насчет главной героини романа, порой чуть ли не затмевающей его автора, — Илле, его «жены», лишь постепенно поставившей это звание в кавычки, возлюбленной, его музы и соратницы, отношения с которой Э. фон Заломон описал на десятках страниц, сохраняя при этом вполне детективную интригу и утаив в итоге очень многое, включая ее фамилию — Готтхельфт. Конечно, дело не в том, что он упорно скрывал это от своих дознавателей, нет, в своих показаниях он рассказал куда больше, однако перед читателем излишним душевным эксгибиционизмом заниматься не стал, умея и без этого писать проникновенную любовную лирику.
Острая трагедия Заломона в том, что он годами вынужден был разрываться между друзьями юности, по-своему порядочными и идейными людьми, переживавшими личную драму краха идеалов при осознании нацизма, и любовью к начавшей себя осознавать еврейкой лишь под давлением Третьего рейха Илле. Охватившее миллионы ложное ощущение национального подъема и триумфа годами готовивший всей душой новый виток развития немецкой нации Э. фон Заломон вынужден был наблюдать, осуждая себя за ошибки и прежнее сотрудничество, причем идейное, с теми, кто теперь губит Германию, сочетая желание гордиться своим народом, вновь превратившимся в «бошей», с симпатиями к вновь ставшей «наследственным врагом» Франции и т. д. Напряженнейшие сцены попыток хотя бы на обыденном уровне сочетать своих друзей и тех, кого он стал считать своей семьей, как никакие другие заставляют задуматься о страшной трагедии раскола Германии и ее общества в годы Веймарской республики, Третьего рейха, да и впоследствии. Того раскола, что ощущается и сейчас, несмотря на пышные празднования каждое 3 октября.
* * *
Роман создавался на основе описанного автором процесса «обкатывания» этих ответов в серии публичных выступлений в лагере для интернированных. При последующей литературной обработке общий тон, темп и акценты в повествовании были намеренно сохранены. Стремясь сохранить разговорную живую манеру, быть как можно более точным портретистом, Заломон зачастую пользуется одними и теми же словами и клише, очень нарочито, словно диктует показания, не давая истолковать их иначе, чем он планировал.
На начальных этапах чтения романа некоторую сложность может представлять его подчеркнуто устная манера, намерение говорить полуцитатами, «всем известными», в том числе и канцеляризмами. Разумеется, Э. фон Заломон не мог удержаться от пародирования штампованных пропагандистских оборотов. Причем самых различных политических сил, особенно нацистов и коммунистов. Шутки, ирония, сарказм воспринимались и использовались им сознательно как основное оружие против страха и безумия творцов режима и тех, кто не дал себе труд задуматься о его бесчеловечности. В связи с тем что широкого распространения немногочисленные русские переводы книг Э. фон Заломона («Город» и «Вне закона») не получили, будучи обречены едва ли не на самиздат, а эпоха Веймарской Германии постепенно уходит в забвение, поначалу оказывается столь необходим огромный объем пояснений, хотя постепенно к «выписанной» таким образом эпохе вполне возможно привыкнуть и вжиться в мир рассказчика, а потому пояснений требуется все меньше.
Вполне созревший к концу пятого десятка лет мэтр словесности всегда красиво обрывает истории, он — мастер эффектных финалов и сплетения рассказов. Профессиональный литератор умеет держать читателя в напряжении, как и зрителя. Книга будто специально предназначена для экранизации. Опытный сценарист и не подумал бы отказаться от такой отточенной кинематографичности в описании событий. Характерно использование базовых сюжетных приемов, можно встретить самые распространенные амплуа, при этом интеллектуальный уровень таков, что ни о каком заигрывании с массовой культурой и непритязательными вкусами не может быть и речи.
Заломон мастерски пользуется жанром, близким к комедийному блокбастеру, но лишь там, где он уместен. Он никогда не навязывает и трагических эмоций, оставаясь удивительно немногословным при описании действительно драматических моментов. Заломон-литератор верен принципу sapienti sat, хотя Заломон-интернированный вполне готов был рассказать тем, кто его допрашивал, поистине болезненные моменты своей биографии, о которых смог умолчать в «Анкете» (например, о том, чем увенчались его взаимоотношения с отцом, как именно были оформлены взаимоотношения с Илле и т. д.).
Структура книги в целом приближается к кольцевой. Лишь постепенно, все ближе к середине романа он выходит на сравнительно прямую дорогу повествования, но всегда готов от нее отойти ради более эффектного примера. Ради очередной истории, в которой есть не только юмор, но и горький намек.
В «Анкете» словно по канонам классической пьесы нет бесполезных, случайных персонажей, появившийся словно между, делом в начале книги герой обретает отдельную историю или удостаивается куда более подробного упоминания спустя несколько глав. То есть Заломон требует от читателя чуть ли не такой же цепкой, как у него, памяти. Лишь пристальное внимание к каждой строке позволяет не пропустить действительно все полунамеки и отсылки между строк… Практически никому из упомянутых им персонажей он не дает категоричных оценок, так что даже первый редактор «Анкеты» возмущался отсутствием ярко отрицательных персонажей из числа нацистов, что вовсе не так. Якобы излишне благодушный автор дает достаточно точных деталей в описании, чтобы читатель отважился на собственное мнение. Сам же Заломон следит за тем, чтобы некоторые его слова, поступки и оценки поначалу стали для читателя неожиданностью, лишь после этого ловко поясняемой или дезавуируемой новой волной сарказма.
Автор «Анкеты» — тонкий наблюдатель, пусть и за хорошо знакомыми ему людьми, хотя последнее — понятие всегда весьма относительное. Заломон умеет точными и мелкими штрихами показать не просто характер и особенности той или иной личности, он вписывает ее в эпоху, ту эпоху, о своей роли в которой будет ломать голову вся Германия, особенно те, кому посчастливилось выжить после Второй мировой войны. Неизбежно, что при этом Заломон и себя показывает куда более рельефно, и все же он — из той редкой породы эгоцентриков, которым чужд эгоизм.
Настоящая любовь Заломона к своей стране и народу не просто декларируется им или описывается. Без пафоса и назидательности она пронизывает весь текст оригинала. О его поистине краеведческой любви к Германии свидетельствуют со страниц романа всевозможные акценты, говоры, интонации — очень точное лексическое полотно… Насладиться им фонетически, передав и это в переводе, зачастую невозможно, хотя некоторую помощь может оказать стилистика высказываний, что и делает изложение Заломона столь контрастным. Это приходится лишь констатировать и заверить читателя, что в оригинале изложение было еще более орнаментальным и забавным.
При этом необходимо не терять из виду и то, что «Анкета» написана под влиянием эмоций, в ответах на первые вопросы не слишком понятных читателю, зато вполне объяснимых по итогам прочтения, особенно после самой объемной из всех рубрики «Примечания». Ведь автор, сохраняя казавшуюся ему в данном случае особенно необходимой немецкую педантичность, то, о чем ему хотелось написать, когда не удалось сделать вид, что его об этом и просили, упорно называл именно так. Зачастую Заломон «играет» всего лишь на том, что английский язык не столь детерминистски въедлив, как немецкий, да еще и редко располагает всеми необходимыми аналогами германским терминам. Германский читатель начала 1950-х гг., переживавший начало «американизации» Германии в условиях оккупации, ощущал это особенно остро. Главный же выпад в адрес победителей во Второй мировой войне: среди 131 вопроса буквально обо всей жизни гражданина Германии они не нашли места ни для одного о том, а как же пришлось выживать после разгрома и временной ликвидации германского государства… И Заломон об этом молчать не стал, ведь по объему показаний его лимитировать не догадались.
Автор распаляется в своей иронической риторике настолько, что не только письменный, но и устный вариант его речей представляет существенную сложность для восприятия, что удается искупить присущим ему тонким юмором и живописной иронией. Однако в эмоциях своих, почти захлебываясь от возмущения, торопясь превзойти самого себя в градусе анекдота, в своей иронии доходит до абсурда и до мелких придирок к оккупационным властям, даже по тексту их опросного листа, упорно и по-немецки дотошно подчеркивая их некомпетентность. В том числе позволяя себе напоминать оккупационным властям «общеизвестные» (но только немцам, воспитанным прусскими школьными учебниками) вещи. Таков был истинно немецкий ответ на вполне американскую манеру действий, т. е. на бесцеремонность и инфантильную категоричность. Разумеется, автор «Анкеты» очень пристрастен, не замечая того, однако ему самому приходилось постепенно вживаться в культуру другой страны, а вот победители принесли с собой лишь навязываемую замену, умудряясь, подробно вникая в детали, упорно делать самые обобщенные выводы. Постепенно тон Заломона становится из назидательного чисто саркастическим. От шутовской угодливости он вдруг переходит к прямым, даже резким обвинениям оккупационных властей.
Пытаясь лишний раз продемонстрировать всю неуместность «любопытства» оккупантов, Заломон блефует. Например, судя по тону, он не без скепсиса относится к астрологии, а ответ его на вопрос о дате рождения в виде гороскопа военными следователями из межсоюзнической администрации мог быть воспринят исключительно как издевательство, но у Заломона и здесь готов ответ: с подчеркнутой серьезностью он ссылается на зодиакальные аспекты и в других частях анкеты. Недаром и на обложке всех двух десятков изданий «Анкеты» ненавязчиво красовались Весы…
Автор необычайно откровенен в своей оценке победителей во Второй мировой войне, прямо сравнивая их поведение с угаром от национал-социалистических триумфов в 1939—1942 гг. в самой Германии. Таким образом, Заломон обвиняет военную администрацию союзников в том, что с их приходом тоталитарный режим никуда не делся, а всего лишь поменялся ее источник. Фразы автора об относительности победы, ставшие фоном к его мыслям и ощущениям в 1945-м, да и в 1939-м, можно воспринимать как горькую иронию в адрес победоносной германской армии периода что Первой, что Второй мировых войн, демонстрировавшей, однако, со временем явные признаки качественной деградации. Предназначенный когда-то стать офицером, бывший кадет прекрасно видел это со стороны.
Обращает на себя внимание почти открытый его призыв (и это в конце 1940-х гг.) к особой манере сопротивления оккупации, своего рода внутренней эмиграции. Любые спекуляции на тему мужества автора «Анкеты», включая сомнения в искренности его самокритики, бессмысленны при учете одного только факта: он еще в лагере обещал американской администрации подробно описать происходящее с их благословения, перечислив фамилии и факты, а потом так и поступил.
Своим романом «Анкета» Э. фон Заломон сыграл важную роль в дискуссиях о так называемой «второй вине», о преемственности и терпимости к Третьему рейху в нарождающейся ФРГ, именно он требовал (и публично) генеральной амнистии на фоне массовых и истерических акций против «предателей», против вернувшихся или бежавших и проч.[15] Вероятно, как и в отношении истории Веймарской республики, именно Заломон мог бы претендовать на хотя бы часть лавров первооткрывателя и инициатора тех процессов осмысления и возрождения травмированного духа немецкой нации, которые и позволили ей очередной раз прийти к европейскому лидерству. Можно со всей уверенностью предполагать, что в ходе дискуссий в искусственно обогащенной интеллектуально среде американских лагерей для интернированных именно такую титаническую задачу Э. фон Заломон себе и ставил. Ему чрезвычайно повезло, что в ФРГ он получил возможность высказывать свои взгляды на болезненные темы моральной ответственности за случившееся в годы Третьего рейха публично и безо всяких преследований со стороны властей. А вот выступивший всего годом позже с резкой критикой всех создававшихся тогда мифов о моральной непричастности немцев к событиям Второй мировой войны и обвинявший в недемократичности партийную систему ФРГ Фридрих Ленц (книга 1952 года «Отвратительный червь немецкой распри») за это серьезно поплатился.
Из-за своего антиамериканизма «Анкета» могла получить шанс на публикацию в социалистическом лагере, ведь ее полагали биографией «искалеченного нацизмом… и т. д.». В ГДР могли бы даже переиздать ее, подчеркнуто не включая (в отличие от ранних романов) в список запрещенной литературы, а также с учетом заслуг старшего брата Заломона Бруно перед коммунистическим движением, но до этого так и не дошло. А по другую сторону Берлинской стены усиленный поток американских кредитов, эффект «германского чуда» 50—бо-х гг. и прогрессирующая интеграция ФРГ с бывшими противниками привели к тому, что бывшая бестселлером «Анкета» становилась все менее востребованной у немцев, пожелавших поскорее забыть о своих обидах на Запад в рамках Холодной войны с Востоком. Заломон же воспринимал вестерни- зацию ФРГ как ее колонизацию Западом, но оказался бессилен этому помешать. Автор «Анкеты» наблюдал, как становится все менее близок и понятен Германии. Очень может быть, что именно тогда ему многое бы дал отклик от восточноевропейского, от советского читателя, способного взглянуть на описываемые события с совершенно иной, незнакомой Заломону стороны. То же можно предположить и о не связанном европейской политической конъюнктурой, предубеждениями чуждого автору «Анкеты» атлантического мира, нуждающемся в более рельефном представлении о Германии российском читателе, однако до этого Заломону дожить было не суждено.
Попытка западногерманского общества в 50—бо-х гг. поскорее забыть слишком многое из того, в чем следовало бы разобраться, а не огульно осуждать, была особенно болезненна для тех, кто оказался вынужден оправдываться за то, о чем так долго и ранее всего предупреждал Заломон. На фоне тех, кто пытался как можно скорее перейти от личного покаяния к общим обвинениям, демонстрируя истинно нео- фитский жар в разоблачениях, Заломон выглядел более чем выигрышно. В отличие от инициатора крупнейшего «спора историков» в Германии, да и во всей Европе второй половины XX столетия, Ф. Фишера, при нацистах гневно клеймившего либералов, а с конца 1950-х гг. писавшего книгу за книгой с разоблачением преемственности агрессивных планов германских элит,[16] Заломона, как бывшего соратника капитана Г. Эрхардта и приятеля другого капитана — Э. Рёма, вряд ли удалось бы обвинить в идейной поддержке нацистов и уж тем более в получении полного набора выгод под личиной «старого борца» с золотым партийным значком (хотя попытки доказать членство Заломона в НСДАП предпринимаются до сих пор). Разумеется, многие и тогда, и сейчас не верят в его непричастность к режиму Третьего рейха, весьма характерно напоминая этим американских следователей, беседовавших с автором будущей «Анкеты» в 1945—1946 гг.
Оправившись от очень непросто давшегося ему годичного заключения, Заломон вновь оказался в кругу своих старых друзей, точнее тех из них, кто смог выжить к началу 1950-х гг. Однако ни о какой новой версии «консервативной революции», об активном политическом участии в еще одном восстановлении нации после второй за четверть века катастрофы речь не шла. Новый этап жизни прежних властителей дум оказался в чем-то более горьким, чем годы Третьего рейха.[17] Жизнь их оставалась драматичной, однако в ней не было места никчемности. Заломон не побоялся быть честным к себе даже ценой скороспелых обвинений в перерождении, нерешительности, слабости. Он никогда не отказывался от выступлений в массовой печати («Ди Цайт», например), не был подвержен гордыне или абсентеизму непонятого гения.
Более того, в известной степени автор «Анкеты» в прямом смысле начал новую жизнь, в первую очередь — семейную, и наконец-то стал отцом. Единственный сын пошел по его стопам, но лишь в лучшем смысле этого слова. В ФРГ, являвшейся, по его мнению, оккупированной страной, Заломон продолжал писать, он был востребован и как сценарист, постепенно став незаменимым свидетелем нескольких эпох, тонким специалистом в нюансах германской действительности «позапрошлого режима». Он никогда не брался за сюжеты и фильмы ему чуждые или скучные. Зато по-настоящему отдавался работе над сценариями и картинами, в которых видел шанс на будущее и на примирение с прошлым. Так, культовой стала трилогия «08/15», снятая другом Заломона П. Маем по его сценарию на основе романа Г. Г. Кирста, автора нескольких книг о германских офицерах.
Логичным следствием его националистического неприятия использования разделенной Германии как плацдарма для противостояния сверхдержав стала поддержка антиколониальных движений в странах «третьего мира» и пацифизм. Ведя активную деятельность на ниве международного антиядерного движения, Заломон все чаще обращался к историческим сюжетам, явно почувствовав в себе после «Анкеты» способность донести портрет эпохи, и не только той, в которой довелось жить самому. В какой-то степени соответствующий опыт он уже получил: когда рассказывал своей возлюбленной Илле (1912 г. рождения) о временах своей молодости, которые та, разумеется, помнила весьма смутно, будучи представителем совершенно иного поколения, чем бывший лишь ю годами старше ее Э. фон Заломон.
Не следует думать, будто Э. фон Заломон изменился с годами решительно во всем, хотя никто, увидев его в 1960-е гг., не поверил бы, что этот человек некогда был политическим террористом. По-своему он оставался столь же последователен и даже консервативен. Слишком походивших на него в юности наивных мечтателей 1968 г. он разочаровал: журналисту «Шпигеля» коротко и ясно на славе бунтаря Заломон сыграть не дал, отрицая возможность какой бы то ни было революции. Это было еще одним разочарованием тех его почитателей, кто не смог ему простить отказа от духа фрайкоров. Заломон с завидной твердостью воспринимал взлеты и падения своего авторитета, наблюдая пестрый набор недовольных им, задетых тем, что он остался радикалом или, наоборот, перестал им быть «как раз там, где надо». Его огромная популярность при жизни и последующее подозрительно поспешное забвение доказывает только, что Германии уже к концу жизни Заломона было о чем вспомнить и без обращения к столь неприятной и для автора «Анкеты» слишком недавней истории. Не случайно своего рода некрологом, автоэпитафией ему стал посмертный выход в 1973 г. его последнего романа. Он назывался «Мертвый пруссак»…
Остается надеяться, что перевод лучшего из произведений Э. фон Заломона станет еще одним шагом к его возращению из конъюнктурного забвения. Разумеется, столь масштабный проект в современной России по шансам его коммерческого успеха вполне сопоставим с обстоятельствами начала писательской карьеры автора «Анкеты», но это, по-своему, даже логично. И как сам Заломон никогда не стал бы писателем без фройляйн доктор Кверфельдт и Ровольта, так и этот перевод (даже фрагментами) не увидел бы свет без инициатора этого проекта — главы издательства «Владимир Даль», без всех, кто вложил в него свой труд и эмоции, без тех, кто сделал приемлемым не только русский текст, но и условия работы над ним, то есть моей семьи и друзей, а также — last but not least — Веры, Елизаветы и особенно Марины, прошедших с переводчиком весь этот путь, от 1-й страницы до 670-й.
Л. В. Ланник
[1] Hermand J. Ernst von Salomon: Wandlungen eines Nationalrevolutionärs. Stuttgart; Leipzig, 2002. S. 28.
[2] См.: Хаффнер С. История одного немца. М., 2017.
[3] См., напр.: Зачевский Е. А. История немецкой литературы времен Третьего рейха. М., 2016.
[4] Хотя в конце 2017 г. оглушительный успех у зрителей по всей Европе имел самый дорогой в истории ФРГ сериал, основанный во многом на политических перипетиях 1929 г.
[5] См.: Klein M.-J. Ernst von Salomon. Eine politische Biographie. Limburg, 1994.
[6] Ernst von Salomon: Revolutionär ohne Utopie. Aschau i. Ch., 2002; Frohlich G. Soldat ohne Befehl. Ernst von Salomon und der Soldatische Nationalismus. Paderborn, 2017.
[7] Hermand J. Op. cit.; Walkowiak M. Ernst von Salomons autobiographische Romane als literarische Selbstgestaltungsstrategien im Kontext der historisch-politischen Semantik. Frankfurt/M. u. a., 2007.
[8] Malinowski S. Vom Konig zum Führer. Sozialer Niedergang und politische Radikalisierung im deutschen Adel zwischen Kaiserreich und NS-Staat. В., 2003.
[9] См. в том числе упоминаемый и Заломоном роман, открывший этот феномен, — роман, который переиздается до сих пор: Glaeser Е. Jahrgang 1902. Göttingen, 2013 (1928).
[10] См., напр.: Stambolis В. Der Mythos der jungen Generation. Ein Beitrag zur politischen Kultur der Weimarer Republik. Diss. … Bochum, 1982.
[11] Подробнее см.: Lindner М. Leben in der Krise. Zeitromane der Neuen Sachlichkeit und die intellektuelle Mentalität der klassischen Moderne. Mit einer exemplarischen Analyse des Romanwerks von Arnolt Bronnen, Ernst Glaeser, Ernst von Salomon und Ernst Erich Noth. Metzler. Stuttgart, 1994.
[12] Schüddekopf О.-Е. Linke Leute von rechts. Die nationalrevolutionaren Minderheiten und der Kommunismus in der Weimarer Republik. Stuttgart, i960.
[13] См.: Fröhlich G. Soldat ohne Befehl. S. 347-348.
[14] Каrо К., Oehme W. Schleichers Aufstieg. Ein Beitrag zur Geschichte der Gegenrevolution. В., 1933. S. 266—272.
[15] См.: Frei N. Vergangenheitspolitik. Die Anfänge der Bundesrepublik und die NS- Vergangenheit. München, 2012. S. 10, 284—285.
[16] См.: Фишер Ф. Рывок к мировому господству. Политика военных целей кайзеровской Германии в 1914—1918 гг. / Пер. с нем., комм, и пред. Л. В. Ланника. М., 2017.
[17] Подробнее см.: Heyer R. «Verfolgte Zeugen der Wahrheit»: das literarische Schaffen und das politische Wirken konservativer Autoren nach 1945 am Beispiel von Friedrich Georg Jünger, Ernst Jünger, Ernst von Salomon, Stefan Andres und Reinhold Schneider. Dresden, 2008.
Добавить комментарий