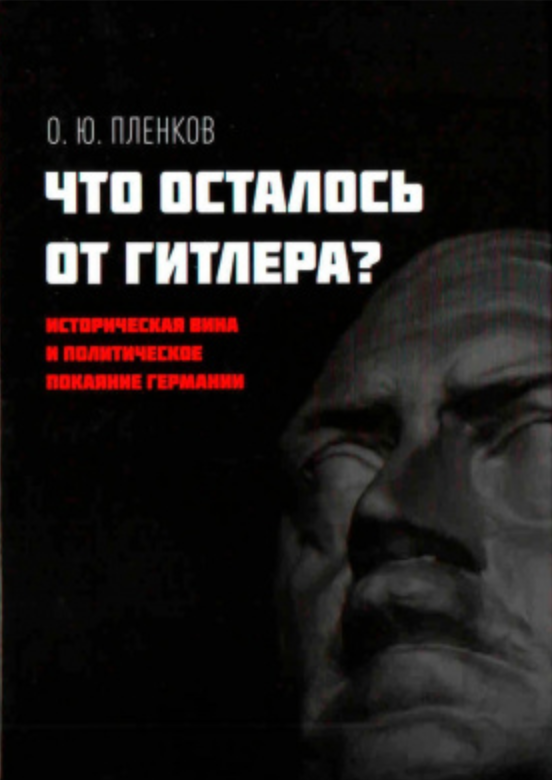
Пленков О.Ю. Что осталось от Гитлера? Историческая вина и политическое покаяние Германии. М., 2019.
Петербургский историк Олег Юрьевич Пленков – один из наиболее плодовитых авторов, посвятивших свою научную жизнь исследованиям нацистской диктатуры. Его труды отличает активный диалог с западными коллегами, использование их концептуальных наработок (третий рейх как вынужденная модернизация) вплоть до провоцирующих сопоставлений («социализм Гитлера»).
В своей новой монографии он сохраняет верность избранной методике «перевода» актуальных дискуссий об исторической вине немцев за нацизм и их адаптации к отечественному дискурсу. В результате получилось комплексное междисциплинарное исследование, соединяющее в себе историческую канву, существенный налет культурологии и серьезную историографическую базу.
Исходный тезис автора – культивирование вины за преступления прошлых поколений является характерной чертой современной исторической культуры Запада. При этом фигура нацистского диктатора уникальна, утверждает Пленков в унисон с его английским биографом Яном Кершоу – в отличие от других лидеров ХХ века, «влиявших почти исключительно на свои страны, последствия правления Гитлера имели глобальные масштабы». Автор видит свою задачу как раз в выявлении «зон молчания», точнее, умолчания о тех или иных аспектах нацистского прошлого, которые возникли в силу политических причин. С его точки зрения, политкорректность в России в данном вопросе гораздо менее строгая, чем в странах Западной Европы, что позволяет назвать многие вещи своими именами (С. 4, 8, 10).
Структура работы и ее оглавление выдают влияние прусской академической культуры – жесткий каркас, дробное разделение на главы, параграфы и подпараграфы. Читатель найдет множество побочных сюжетов – о массовых убийствах армян в годы Первой мировой войны, сопоставимости преступлений нацизма и сталинизма и др. Автор избирает хронологический подход, превращая 1968 г. в точку невозврата, когда покаяние за преступление отцов и дедов переходит из сферы политики и науки в повседневную культуру западных немцев.
Это покаяние тех, кто не был замешан в коричневом прошлом (Gnade der späten Geburt – милость позднего рождения, как точно заметил Гельмут Коль), выдержало испытание «спором историков» 1986 г., который, по мнению автора, являлся не научной дискуссией, а «медийным явлением» (С. 309). Наверное, не все читатели согласятся с тезисом о том, что спор завершился неким согласием, пусть даже с приставкой «квази». Немцев с младых ногтей приучают к жесткой дисциплине в оценках преступлений нацизма, и это в каждом новом поколении вызывает отнюдь не единообразные девиации.
Пожалуй, наиболее самостоятельна глава о влиянии воссоединения Германии на ее историческую память. Формальный антифашизм ГДР приводит к расширению стратегий «перевоспитания» ее населения в единой стране, и в то же время подпитывает ревизионистские толкования (такие, как вопрос о гражданских жертвах тотальной бомбардировки Дрездена весной 1945 г.). Очевидно, что книга писалась достаточно долго – отсюда включение в нее отнюдь не обязательных сюжетов о судьбе европейской интеграции (введение евро), пришествии мигрантов в 2015 году и антиисламском алармизме немецких обывателей (ПЕГИДА и АДГ).
В заключение автор отдает должное усилиям жителей Германии, которые за три четверти века обрели общую идентичность по отношению к нацистскому прошлому, сочетающую в себе элементы самоутверждения и покаяния (здесь он, как и во многих других случаях, идет вслед за Алейдой Ассман, о ней см. ниже). И опускает в бочку меда приличную ложку дегтя: прошлое используется для извлечения правильных ответов, известных заранее. «Это морализаторство, однако, не всегда искренне, последовательно и не всегда соответствует исторической действительности, часто просто производит впечатление и является искусственным» (С. 497). Ну что тут скажешь, у читателя остается широкое поле для интерпретаций…
Что еще почитать по этой теме?
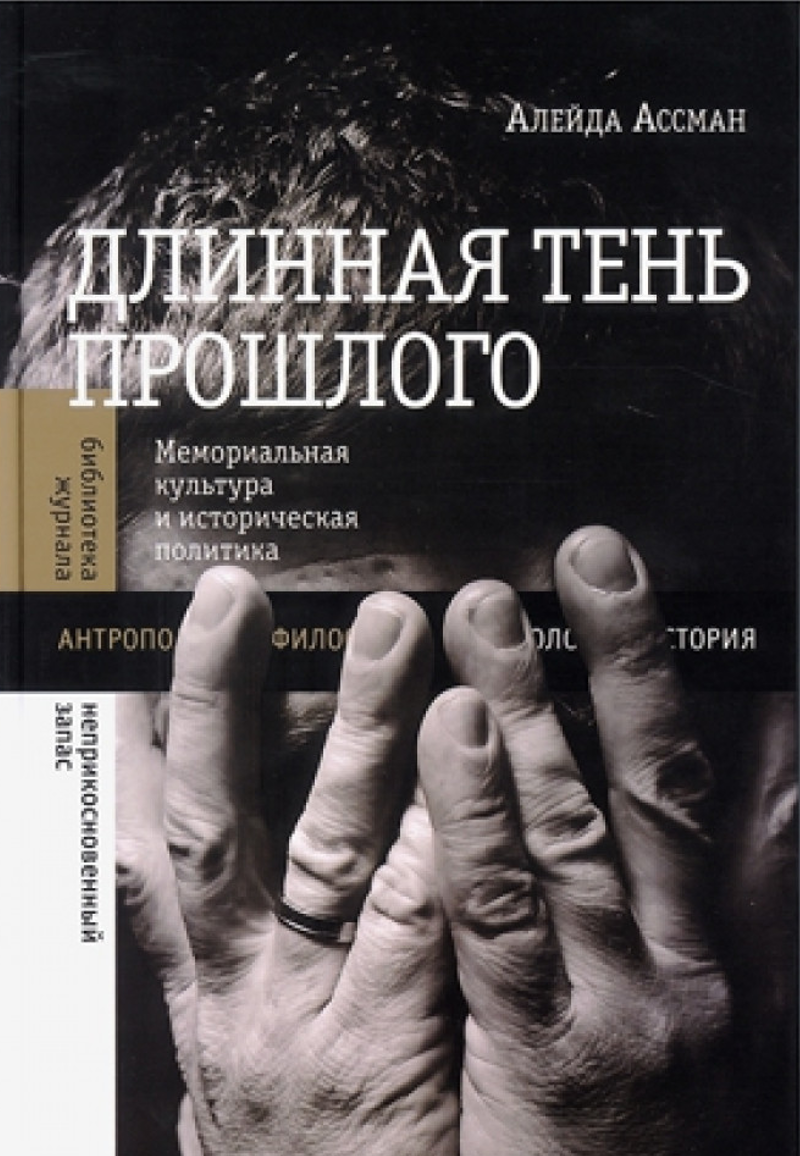
Алейда Ассман. Длинная тень прошлого. Мемориальная культура и историческая политика. М., 2014.
«Тезис о неэмоциональном отношении к истории национал-социализма, похоже, выдает желаемое за действительное»… Не только в Германии, но и повсюду в мире так называемый memory boom принес с собой значительное усиление эмоционального восприятия истории». (C. 299).
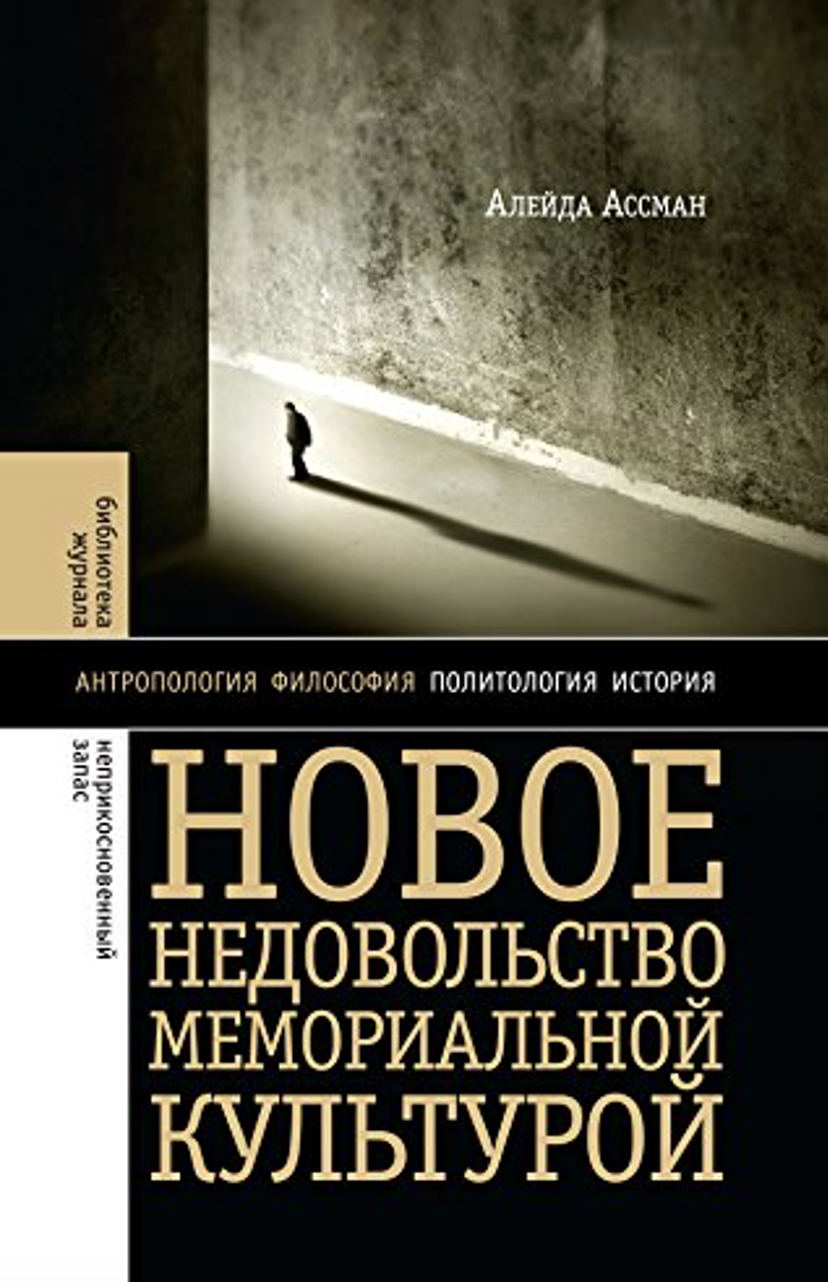
Алейда Ассман. Новое недовольство мемориальной культурой. М., 2016.
Четыре этапа и одновременно четыре типа отношения к травматическому прошлому в современной Европе:
— диалогическое забвение. Пример – «коллективное умолчание в западном сообществе о преступлениях нацизма, хотя это ближе к репрессивному забвению, которое заставляло жертв и дальше страдать, а преступников как бы освобождало от ответственности»
— воспоминание как гарантия от забвения. Поколение 1968 г. разбередило вроде бы затянувшиеся раны, память была возведена в ранг терапевтического средства и этического долга, став основой совместного будущего.
— воспоминание ради преодоления – на первом плане практическая польза, воспитывающая правда, комиссии правды и примирения, как в ЮАР – жертвы должны поведать о своих страданиях, чтобы потом удалить их травму из социальной памяти.
— диалогическое памятование – подразумевает выход за национальные рамки, признание того, что одно и то же сообщество в условиях «совместной истории» может быть одновременно и жертвой, и палачом.
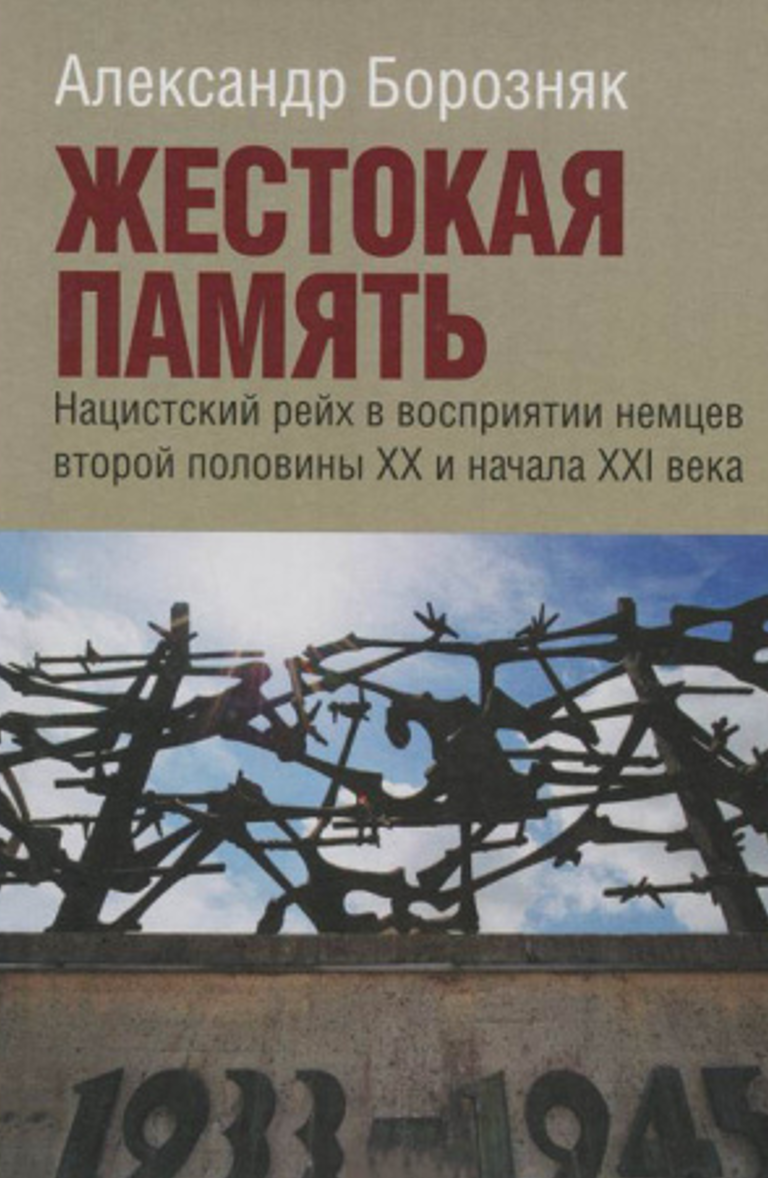
Борозняк А. И. Жестокая память. Нацистский рейх в восприятии немцев второй половины ХХ и начала ХХI века. М., 2014.
Не сразу и не простыми путями достигли немецкие ученые разных поколений современного уровня понимания истории гитлеровской диктатуры… И хотя извлечение уроков из нацистского прошлого, как утверждает Юрген Хабермас, «на Востоке Германии произошло поверхностно, а на Западе страны с громадным отставанием», мы все же можем назвать это свершение значимой победой независимой гуманитарной мысли (С. 333-334).
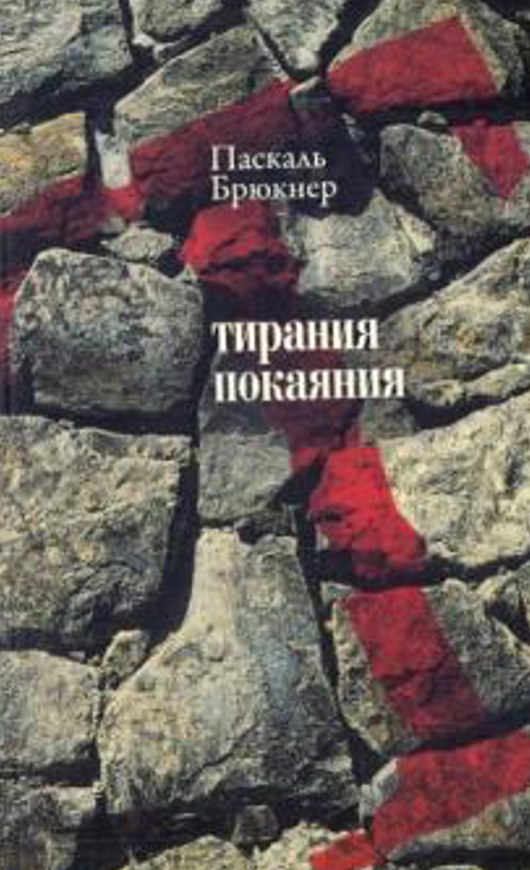
Брюкнер П. Тирания покаяния. Эссе о западном мазохизме. СПб., 2009.
«Нужно обратить вспять наше обращение к прошлому, видеть в нем источник не сожаления, но уверенности. Европа, пример успешного освобождения от варварства, гармоничного союза могущества и совести, не может быть столь нежеланной для других и одновременно столь нестерпимой для себя самой… Ей нужно не географическое расширение, абсурдное растяжение до крайних пределов, а укрепление души, концентрация сил» (C. 249).
Нора П. Всемирное торжество памяти // Неприкосновенный запас. 2005. № 2-3. С. 40-41
« «Мемориальная эпоха» — так я предложил назвать это движение памяти, настолько общее, глубокое и мощное, что стоит, вероятно, задаться вопросом о его причинах, даже если мы сумеем назвать лишь самые общие и очевидные. Мировое господство памяти возникает, мне кажется, на стыке двух крупных исторических явлений, характерных для современной эпохи. Первый феномен касается времени, второй – общества». Эти феномены, анализируемые в статье – ускорение и демократизация истории. »
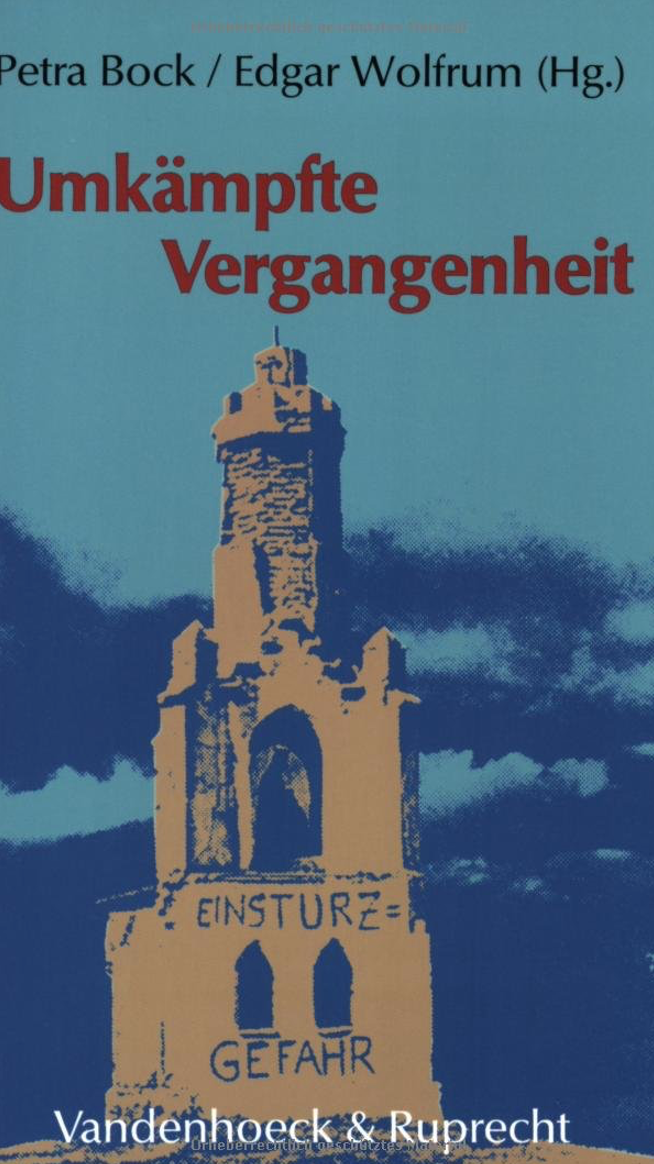
Umkämpfte Vergangenheit. Geschichtsbilder, Erinnerung und Vergangenheitspolitik im internationalen Vergleich / Hrsg. von Petra Bock und Edgar Wolfrum. Göttingen, 1999.
В сборнике представлен ряд интересных публикаций по теме, в частности — статья экс-директора Мемориала немецкого Сопротивления в Бендлер-блоке, где работали участники переворота 20 июля 1944 г., Петера Штайнбаха о музейной коммеморации жертв нацизма в Германии.
Добавить комментарий