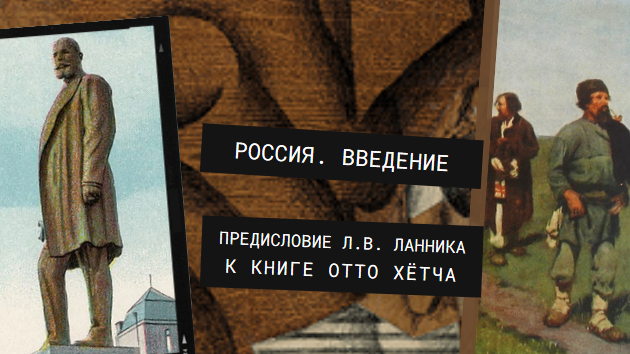
Уважаемые коллеги!
Предлагаем Вам предисловие Л.В. Ланника к недавно переведенной им книге немецкого историка и политика Отто Хётча (1876-1946) «Россия. Введение (на основании ее истории от войны с Японией до Мировой войны)». Приятного чтения!
Выходные данные книги:
Хётч О. Россия. Введение (на основании ее истории от войны с Японией до Мировой войны) / пер. с нем., вст. ст. и комм. Л.В. Ланника. — М.: Содружество «Посев», 2021. — 432 с.
* * *
Степень посмертной славы и востребованности автора предлагаемого вниманию труда в стране, изучению которой он посвятил почти всю свою полувековую карьеру исследователя, вполне достаточно характеризуют два факта. Во-первых, о нем до сих пор нет статьи ни в русской, ни вообще в какой-либо из славяноязычных Википедий. Во-вторых, за более чем 100 лет так и не сложилось общепринятой традиции передачи его фамилии, характеризующейся специфическим саксонским правописанием — Hoetzsch. Сложный набор согласных, вызванный в том числе сильным славянским влиянием в Саксонии, на русском языке как только ни писали: Гёч, Гёцш, Хёч, Хёцш, Хётч. За истекший век рекомендации и принятые нормы на соответствующий счет поменялись заметно и как минимум дважды. В водовороте политических бурь поистине «переплетенной» истории своей родины и изучаемой страны именитый русист, россиевед и классик остфоршунга О. Хётч (1876–1946) никогда сторонним наблюдателем не был. Жизнь представителей его поколения, не только в Германии и России, оказалась самой насыщенной из всех, кому довелось жить в XX в. О нем давно сложилась довольно обширная историография, в основном немецко-, но также польско- и русскоязычная, однако ни одного перевода на русский его основных работ или хотя бы небольших статей не состоялось или им не суждена была публикация. При детальном рассмотрении его биографии сомнений в политических причинах такой «слепоты» ученых из СССР не возникает, однако тем больше вопросов к постсоветским коллегам.
Пройти мимо работ О. Хётча у сколько-нибудь серьезного специалиста по германской историографии и вообще по германо-российским отношениям и интеллектуальным связям в первой половине XX в. попросту нет возможности, однако за 30 лет истории современной России организовать издание почему-то не получилось. Для сравнения следует сказать, что аналогичный «историографический долг» не менее известным коллегам и идейным оппонентам был отдан в полной мере и по конъюнктурным причинам, например, П. Рорбаху, на Украине.
Неоднозначно складывалось отношение к О. Хётчу и на его родине, причем на самых разных этапах его биографии, да и посмертно. Сколько-нибудь полный обзор его деятельности на стыке науки, политики и публицистики требует объемистой монографии, однако на русском языке ее не существует до сих пор, а новейшая крупная биография на немецком выпущена в ГДР в 1978 г.[1] Шансы на новый виток исследования наследия ученого, далеко не полностью опубликованного и хранившегося почти 70 лет в различных институтах по изучению истории Восточной и Южной Европы, а с недавних пор в архиве Гумбольдтовского университета в Берлине, по-видимому, невелики. Это тем более бросается в глаза, что едва ли не все авторитетные центры славистики и истории Восточной Европы в Германии (например, Гердер-институт изучения Центрально-Восточной Европы в Марбурге и т. д.) так или иначе сталкиваются с результатами работы выдающегося ученого. При этом нельзя сказать, что Хётч попросту предан забвению. И это видно не только по постепенной оцифровке и электронному переизданию его основных работ в Германии. Должное специалисту, в том числе уже в XXI в., отдавали такие продолжатели его дела, как К. Шлёгель, Г. Кёнен и ряд других исследователей[2]. Правда, при этом не раз звучали фразы о тщетности всех его усилий, по меньшей мере спорные, хотя и объяснимые.
Увлечение историей Восточной Европы, в особенности Польши и громадной Российской империи сформировалось у молодого саксонца не сразу, хотя карьеру ученого он делал стремительно. Всего в 30 лет защитил уже вторую (т. е. в современной российской терминологии — докторскую) диссертацию. Его учителями стали крупнейшие германские историки того времени К. Лампрехт и О. Хинтце, заложившие — не без тяжелых дискуссий — методологическую базу многих основных направлений в гуманитарных исследованиях XX в., особенно в исторической социологии. Это, видимо, придало уверенности в спорах и их ученику. В те же годы О. Хётч посещал лекции одного из крупнейших специалистов по «русскому вопросу» известного своими русофобскими воззрениями Т. Шимана (1847–1921). Этот основатель школы восточноевропейских исследований в Германии, позднее неутомимо проклинаемой на страницах историографии СССР, ПНР, ЧССР и ГДР, был уроженцем Курляндии, откуда с началом русификаторской политики Александра III эмигрировал на «историческую родину», чтобы сделать осуждение России, панславизма и имперской политики восточного соседа своей профессией и делом всей жизни. За проповеди беспощадной борьбы с опасными российскими притязаниями его ценили германские элиты и лично кайзер Вильгельм II. Шиману удалось привить Хётчу интерес к этнографии, социально-экономическому развитию и истории Восточной Европы, но не яростное пренебрежение к славянам и бурное стремление к натиску на Восток с бескомпромиссным онемечиванием местного населения. Новый мир открылся молодому историку после основательного изучения польского и русского, а позднее украинского языков, во владении которыми он со временем достиг больших высот. В 1906 г. доктор наук переехал в Позен, один из центров тогдашнего культурно-колонизационного Drang nach Osten, где навсегда связал свою жизнь с современной историей и страноведением Восточной Европы.
Напряженные научные исследования не мешали Хётчу активно заниматься публицистикой и политикой. Еще в 1900-е гг. саксонец продемонстрировал нетипичные для его земляков младогерманские националистические взгляды, которые довольно быстро привели его не только в Пангерманский и Флотский союзы, но и в Консервативную партию, являвшуюся оплотом пруссачества и постепенно терявшую некогда устойчивые позиции в рейхстаге и проправительственный курс. Это не только позволило успешно публиковать все новые работы, но и обеспечило ему преподавательскую кафедру в Берлине еще до начала Великой войны. Этому способствовал выход в свет в 1913 г. первого издания его работы «Россия. Введение в ее историю 1904–1912 гг.»[3]. В предисловии к книге автор давал понять, что вполне сознает, сколь масштабную задачу поставил перед собой, пытаясь создать действительно целостную картину современной России, ее новейшей истории, культуры, особенностей ее общества и экономики. Это потребовало от него напряженной работы с трудами на многих европейских языках и почти непрерывного внесения корректив сразу во все главы представленной книги.
В высоких шансах на успех задуманного убеждало уже оглавление вышедшего в свет труда. Структура почти 600-страничного исследования давала возможность рассматривать творение О. Хётча как базовую работу для всех изучающих Российскую империю историков, филологов, политиков, экономистов и дипломатов. Несмотря на изрядный объем, успех был обеспечен. Почти немедленно издательство запросило подготовку обновленных версий книги, однако ход политических событий, подогревавших интерес к России, славянам и перспективам вооруженного противостояния, по меньшей мере в Восточной Европе, оказался слишком стремительным. Выход в свет этой книги проходил под аккомпанемент скоротечной 1-й Балканской войны, приведшей к взрыву славянофобии в Германии и Австро-Венгрии. Следующее издание вышло весной 1915 г., причем автор вынужден был признаться, что внести действительно необходимые поправки он пока не успел. Еще до начала Первой мировой войны О. Хётч стал офицером ландвера, будучи не годен к строевой службе. Однако его выдающиеся познания, навыки и способность к анализу огромного объема актуальной информации не оставляли шансов на чисто академическую карьеру даже в мирное время и даже если бы сам профессор к этому действительно стремился. Как и многие германские интеллектуалы националистических воззрений О. Хётч был готов отдать долг Родине там, где будет ей наиболее полезен. В 1915 г. он начал службу в отделе иностранных армий (т. е. в разведке) Генерального штаба, точнее, тех его инстанций, что остались в Берлине после формирований Верховного Главнокомандования. Разумеется, это было оптимальное поле приложения сил для такого специалиста, а самому Хётчу предоставляло возможность доступа к лучшим в Германии информационным каналам о России, Восточном фронте и странах Восточной Европы и Ближнего Востока. Он продолжал активно публиковаться, а общее направление его исследований позднее назвали бы политологией и геополитикой, ведь в молодости он испытал немалое влияние одного из основателей последней Ф. Ратцеля. Успехи Центральных держав в противостоянии с Россией и оккупация крупных территорий в Польше, Прибалтике и Белоруссии после «Великого отступления», а затем и других огромных территорий в контексте Брестского мира резко актуализировали проблему их будущего переустройства в случае победы Германии над Антантой, в которой в кайзеровской империи вплоть до лета 1918 г. сомневались очень немногие. Хётч всей душой желал победы своему Отечеству, однако в отличие от неутомимых обличителей «русской тирании» и царизма видел залог прочного будущего для Германии на Востоке вовсе не в широких аннексиях или максимальном раздроблении России на национальные государства. Своих воззрений он не скрывал, выступая в престижных берлинских салонах (особенно «Общества собраний по средам»), и быстро вызвал бурю негодования всех видных «специалистов по России», включая Т. Шимана, Й. Халлера и П. Рорбаха. Несмотря на специфику военного времени и вопреки нормам академической культуры, последовали обвинения в русофильстве, предательстве национальных интересов или по меньшей мере грубой недооценке русской (а потом и революционной) опасности. Хётч и не думал отступаться, а отстаивал свои взгляды на важность будущего русско-германского примирения и прочного союза на публичных выступлениях в Берлине и, насколько дозволяла цензура, в печати[4]. Его членство в Консервативной партии не смогло ему в этом помешать, ведь и в России, и среди прусских юнкеров было немало тех, что еще до начала Великой войны был прочно убежден, что война между монархиями Гогенцоллернов и Романовых сможет пойти на пользу только западным демократиям, став началом конца того мира, что консерваторы пытались спасти десятилетиями. Итогом напряженной работы по отслеживанию скудных либо не всегда достоверных известий о том, что происходит по ту сторону фронта, бурных дискуссий и давления обстоятельств военного времени, с его цензурными ограничениями и дефицитом всего и вся, включая бумагу, и стало новое издание главного к тому моменту труда О. Хётча. Оно вышло в свет в самом начале 1917 г. и до странности немного не успело к новому бурному водовороту политических событий, ставших началом новой эпохи в истории сначала России, а затем Германии и всего мира. Оно фиксировало последние стадии и — как потом оказалось — итоговые результаты той эпохи, когда главной русской революцией все еще казалась первая, 1905 года. Именно поэтому для перевода был избран этот вариант, а не более масштабный первый, образца 1912 г. Хотя во 2-м издании в книге стало более чем на 100 страниц меньше, она едва ли проигрывала исходной версии, ведь многое уже не актуальное или не нуждающееся в детализации было вычеркнуто, а основная статистика и сведения из политической и экономической (реже — военной) сфер жизни громадной империи по возможности дополнены, исправлены и проанализированы. Второе издание было полностью переработанным, о чем предупреждал и сам автор, и стало своего рода предсмертным фотографическим снимком доживавшей последние месяцы Российской империи, пусть и через германский объектив. Свержение монархии в России, перипетии 1917-го, а затем и еще более 1918 года, казалось бы, сделали 2-е издание монографии Хётча неактуальным сразу после его публикации. А под воздействием новых событий на Востоке дискуссии с его идейными оппонентами после развала империи Романовых вышли на беспрецедентный уровень остроты.
С огромным трудом берлинский профессор вынужден был отстаивать свою точку зрения в оценке перспектив большевизма и будущей России, а особенно поддерживаемых Германией благодаря идеям Шиманна и Рорбаха государств-лимитрофов, упорно и тщетно — о губительности прямых обширных аннексий для геополитического будущего Германии. Даже когда в ноябре 1918 г. крах постиг теперь уже германскую монархию, правоту Хётча не торопились признавать, ведь любые слова о важности взаимопонимания, а то и союза с Россией теперь надолго стали относить к пропаганде большевизма. Ноябрьская революция и смена Кайзеррейха Веймарской республикой стали драмой для всех германских националистов и тем более для консерваторов, однако многие из них не собирались признавать поражение. 43-летний Хётч в 1919 г. стал одним из лидеров новой Немецкой национальной народной партии (НННП), пришедшей на смену прежней Консервативной партии, а с 1920 г. неоднократно избирался в рейхстаг. Продолжились и его академическая карьера, и публицистическая деятельность. Он обретал все больший авторитет как один из немногих специалистов, предсказывавших усиление России, теперь уже Советской, ликвидацию многих лимитрофов и важные перспективы советско-германского сотрудничества, которое было единственным шансом Веймарской республики на постепенную ревизию и демонтаж Версальской системы. При ярко выраженных немецких националистических взглядах, при приверженности консервативным целям Хётч стал горячим сторонником нормализации отношений Берлина и Москвы, и к его услугам эксперта и переводчика не раз обращались в германском внешнеполитическом ведомстве (АА). Не случайно именно Хётч стал одним из авторов германского текста знаменитого Рапалльского договора 1922 г., участвуя в непростых советско-германских переговорах как эксперт-переводчик.
Конец 1920-х гг. стал пиком научно-политической карьеры профессора. Он сумел сочетать членство в правоконсервативных партиях и тесные контакты с берлинской частью русской эмиграции с широкими связями с советской стороной. Хётч не раз посещал Советский Союз, сохранял связи с советскими историками при поддержке НКИД и придал своим научно-политическим интересам институциональное измерение, основав старейший и (ныне совершенно политизированный) специальный журнал «Остойропа» и Институт изучения Восточной Европы. Не приходится сомневаться, что активная деятельность специалиста по Советской России являлась удобным прикрытием для шедших через него военно-политических контактов и сделок, ведь такая технология использования ученых как агентов влияния была успешно освоена Германией и другими великими державами еще до Первой мировой войны, особенно на Востоке. Платой за такую службу национальным интересам был исключительный доступ и к германским и белоэмигрантским, и в некоторой степени к советским архивным источникам и новейшим изданиям. При огромной востребованности и вовлеченности в текущую политическую повестку профессор не забывал и об истории прошедших эпох, в том числе российской, хотя огромные силы тратил на анализ современных ему тенденций и событий. Хётч продолжал активно публиковаться, занимал престижнейшие кафедры и не уставал пропагандировать важность познания того региона, в котором заключено будущее Германии, а не тиражирования культуртрегерских мифов, чем по-прежнему занимались такие его оппоненты, как Й. Халлер. Сочетание стойкой приверженности к умеренно-консервативным ценностям и страстного стремления отстаивать национальные интересы, не допуская катастроф из-за перенапряжения сил и предвзятости, сближало Хётча с теми, кого полагали негласными авторами политического курса, подготавливавшего восстановление великодержавного статуса Германии. Он стал членом клуба «Se-Si-So», лидерами которого были создатель рейхсвера Г. фон Сект, председатель Имперского суда В. Симонс и бывший глава колониального и внешнеполитического ведомства В. Зольф. Между 1922 и 1933 гг. группировавшиеся вокруг этих фигур представители германских элит пытались сохранить сбалансированное развитие Германии вне зависимости от крайне скептического отношения к текущему ее политическому устройству. Удары Великой депрессии 1929–1933 гг. возымели роковые последствия и для Веймарской республики, и для тех, кто по прагматическим соображениям пытался стабилизировать германское общество. Усилия слишком уж многих, в том числе коммунистов и нацистов, имели строго противоположное направление. Назначение А. Гитлера рейхсканцлером 30 января 1933 г. было вызвано многими причинами, однако организационно оно было подготовлено серией неудачных политических маневров в окружении П. фон Гинденбурга и ошибками того крыла консерваторов, которое сочло, что в условиях быстрого роста популярности КПГ союз с нацистами оправдан. О. Хётч был довольно близок к Гинденбургу и пользовался немалым авторитетом у многих его соратников, однако предотвратить этих роковых шагов не мог. Он вышел из дрейфовавшей к блоку с нацистами НННП и лишился мандата в рейхстаге, наблюдая неуклонную радикализацию германского общества. Вскоре рапалльскому периоду в советско-германских отношениях пришел конец, а вместе с ним и акме в деятельности О. Хётча. Хотя разрыв между СССР и Третьим рейхом последовал вовсе не так быстро, как до августа 1939 г. делали вид обе стороны, уже к середине 1934 г. надежды на продолжение хотя бы ограниченного сотрудничества были похоронены, казалось, навсегда. Нацисты и до этого полагали Хётча «салонным большевиком», а все его единомышленники (например, германский посол в Москве в 1933–1934 гг. Р. Надольны) были лишены правительственных и дипломатических постов почти сразу после смерти П. фон Гинденбурга в августе 1934 г. Не помогла и принесенная под давлением присяга Гитлеру, обязательная теперь для всех занимавших государственные посты. Все, созданное Хётчем, теперь должно было служить именно тому восприятию Восточной Европы немцами, с которым он боролся вот уже четверть века, а потому в 1935 г. профессор подал в отставку, тщетно дожидаясь перемены курса. Отныне ему дозволено было заниматься лишь историей России, но только в допустимых для нацистов аспектах[5]. Взглядам О. Хётча на современность и будущность Восточной Европы и СССР не было места в политике нацистской Германии даже между августом 1939 г. и ноябрем 1940 г., а затем недолгий флирт Берлина и Москвы стал сворачиваться. Как и многим другим германским историкам ему оставалось лишь с горечью — и молча, как никогда за всю жизнь — наблюдать бурный расцвет культуртрегерства в исторической славистике, а затем и серию исследовательских прожектов, соответствовавших воззрениям Й. Геббельса и А. Розенберга. Созданный им остфоршунг сменился целой серией институтов, ангажированность которых была показной, а научность изысканий априорно сомнительной, хотя бы по манере ставить исследовательские вопросы. Нет сомнений, что у Хётча оставалось немало тайных друзей в военно-дипломатической и экономической элитах Третьего рейха, которые надеялись, что война с СССР закончится триумфом, а не трагедией для Германии, но вполне понимали необходимость поиска модели отношений с государствами Восточной Европы, которые останутся в германской зоне влияния. Однако любое «взаимопонимание» со славянским Востоком инстанции Третьего рейха намерены были использовать только в конъюнктурно-политических и военных целях, запоздало слепленного в 1942–1944 гг. антибольшевистского интернационала не получилось. Никаких шансов — кроме разве что успешного военного путча 20 июля 1944 г., с организаторами которого контактировал отставной специалист, — на воплощение идей о русско-германском взаимовыгодном сотрудничестве после 22 июня 1941 г. не было и быть не могло. Многие из учеников основателя Института Восточной Европы познали бескомпромиссность нацистской политики на себе, и профессор об этом прекрасно знал, глубоко переживая разгром его школы и извращение всего им созданного.
Детали того, как именно Хётч переживал финал Второй мировой войны, ставшей приговором для всего немецкого Востока, известны далеко не полностью. Известно лишь, что он вынужден был перебраться из Берлина в Штеттин, хотя и оттуда пришлось бежать обратно не позднее февраля 1945 г. Возможно, главной причиной такого исчезновения из столицы было стремление скрыться от гиммлеровских расправ, постепенно вскрывавших все новые нити и грани Сопротивления, в том числе того крыла, к которому был близок Хётч. И без прямых доказательств старого клейма «большевика» и друга СССР хватило бы для быстрого смертного приговора или расправы в концлагере перед приходом войск антигитлеровской коалиции. Ему повезло, насколько можно так выразиться, дожить до полной оккупации Германии, причем он вполне сознательно остался на территории, занятой советскими войсками. В свои почти 70 лет старый профессор должен был, если позволят новые власти, чуть ли не все начинать заново и при куда более плохих, нежели в 1918 г., стартовых позициях. В бомбежках Берлина и хаосе последних месяцев Второй мировой войны он лишился почти всего, кроме части рукописей, подготовленных за почти десятилетие внутренней эмиграции. Найдется ли для него место в будущей просоветской Германии, контуры которой в 1946 г. были еще крайне смутными, было далеко не ясно, однако в быстро оформлявшейся Холодной войне советские оккупационные инстанции не собирались игнорировать такого уровня интеллектуальные ресурсы. Им нужно было поскорее восстановить Берлинский университет в прежней его славе, насколько это вообще было возможно после массового бегства интеллектуалов на Запад[6]. На прошедших в конце мая 1946 г. совещаниях Хётч вынужден был выступить с рядом заявлений, которые были восприняты просоветскими активистами как готовность пожилого ученого поступиться своими прежними позициями, так что впоследствии в ГДР пытались создать видимость запоздалого обращения профессора к марксизму и историческому материализму, что едва ли выдерживает критику[7]. За ним снисходительно признавали «прозрение» и признание нового общественного устройства с избавлением от антикоммунистических взглядов. Так как всего через 3 месяца, в конце августа 1946 г., Хётч скончался, на 71-м году жизни, до дальнейших принудительных актов лояльности не дошло. В том числе поэтому в схватку за наследие попытались вступить и в создававшейся в те годы Западной Германии, где по инициативе бежавших туда родственников профессора в 1949 г. вышло посмертное издание одной из базовых работ О. Хётча по истории России[8], в котором были предприняты — якобы незначительные — правки исходного текста. Продолжения этой активности в ФРГ не последовало. В ГДР полагали, что, с известными оговорками, схватка за наследие и имя известного ученого осталась все-таки за ними, а потому в пантеон дозволенных СЕПГ историков прежних эпох Хётч был все-таки включен. Однако до популярности столпов восточногерманской исторической науки ему было далеко. Хотя эпоха сменилась очередной раз, даже посмертно профессор нередко оказывался на положении маргинала. В обеих частях разделенной Германии пытались не столько понять его позицию, сколько отобрать из нее только приемлемое по политическим причинам. Многим из младших коллег пришлось сделать свои нелестные выводы о перспективах борьбы десятилетиями за позицию, заведомо слишком сложную и непривычную для сильных мира сего. Одним из немногих, кто попытался продолжить дело О. Хётча на благо взаимопонимания между народами России и Германии в годы Холодной войны, стал К. Менерт, сопровождавший в «золотые годы» профессора в его поездках в СССР эпохи первых пятилеток[9].
Представляется, что лишь с учетом подобного — весьма схематического — биографического очерка можно дать оценку предлагаемого вниманию творения выдающегося ученого. Разумеется, создавая эту книгу в 1912–1916 гг., Хётч не мог знать, сколь переменчивой и трагичной окажется судьба Центральной и Восточной Европы в целом, и России и Германии — в частности. Вопреки политическим бурям, преследованиям и окатывавшему его едва ли не всю жизнь валу непонимания со стороны коллег и различных общественных кругов, он упорно хранил принципиальность и последовательность в своих взглядах на важность взаимодействия двух держав, не изменяя себе и не отвлекаясь на предубеждения. Поэтому можно полагать, что своей книгой, названной в оригинале «Введением (!) в Россию на основании ее истории», он еще в начале эпохи мировых войн пытался предотвратить тот кошмар, что постиг сотни миллионов людей, населявших Евразию. Путь к этому он видел только во взаимопонимании двух народов, а оно возможно лишь при непрерывном познании друг друга, для организации которого в Германии О. Хётч сделал все от него зависящее.
Может показаться, что российскому читателю едва ли может дать нечто новое своего рода учебник по страноведению России столетней давности. Для этого он слишком компактен, исполнен устаревших оборотов, неактуальных оценок или неоправдавшихся прогнозов. По привлекательности книга Хётча едва ли может соперничать с вечно популярным жанром философских путевых заметок, исполненных свежих впечатлений и эффектных в своей однобокости выводов на основе беглых наблюдений. Но именно в этом значимость этой книги не только для первых ее читателей более века назад, но и для тех, кто желал бы по-настоящему разобраться в том, как и кем формировались представления о России и ее возможностях у тех, кто принимал важнейшие решения в Берлине, ценой которых могли быть миллионы жизней и триллионы евро (в современных ценах). При современной деградации элементарных познаний об окружающем мире на самых разных уровнях общества, при все более низком уровне культуры осмысления и оформления даже судьбоносных замыслов, при темпах принятия очевидных и насущных решений никакого основания для заносчивости перед интеллектуалами, военными, политиками и дипломатам начала и середины XX в. у наших современников нет. Огромные информационные возможности вовсе не гарантируют умения и воли их должным образом использовать или хотя бы подготовить к анализу.
В этом отношении книга О. Хётча являет собой образец, на который стоило бы равняться консультантам и экспертам нынешних высших инстанций. При отказе от апостериорного знания и при учете общего фона и качества восприятия России в Европе вообще и в Германской империи в начале XX в. книга Хётча может удивить редкостной сдержанностью, профессионализмом в подборе и сопоставлении данных, целостностью подхода к анализу слабых и сильных мест, как текущего, так и вневременного плана. Конечно, у российского (да и украинского, и польского и т. д.) читателя может возникнуть масса претензий и даже возмущения высказываемыми автором мнениями, где есть не только фактические ошибки, но и так и не осознанные самим Хётчем предубеждения и стереотипы. При громадном объеме прочитанной литературы на 5–7 языках он был не свободен от инерции некогда заложенных в него представлений. В том числе поэтому при переводе потребовалось сопроводить исходный текст многочисленными комментариями с поправками. Задачи исчерпывающей коррекции — на основе накопленных за столетие сведений — всех приводимых данных статистического или биографического характера не ставилось, хотя искушение поспорить с Хётчем, воспользовавшись массивом информации, которую он был не в силах получить, порой возникает едва ли не в каждом предложении. Очень уж не точными могут показаться и этнографические термины и рассуждения, и сведения, сообщаемые автором, однако здесь следует иметь в виду чрезвычайно слабые представления о многонациональном населении России в Европе и в том числе Германии до Великой войны. Лишь 2,5 млн. плененных солдат Русской императорской армии дали достаточно поводов и возможностей специалистам в Центральных державах открыть для себя и европейской читающей публики громадный пестрый мир культур и народов Восточной Европы, Кавказа, Северной и Центральной Азии. Таким образом, многое из актуальнейшей — что легко доказывается — статистики, приводимой профессором на страницах его энциклопедии по истории поздней Российской империи, ныне представляет лишь исторический интерес.
При очевидном стремлении Хётча к объективности и неуклонном желании продемонстрировать не столько слабости, сколько потенциал и достижения исследуемой им страны, автор оставался в полной мере немецким националистом и умеренным консерватором. Это вполне достаточно прослеживается хотя бы по его попыткам (зачастую неосознанным) гиперболизировать немецкий след и роль в истории всех сфер жизни императорской России, хотя они в действительности столь велики, что любыми домыслами и преувеличениями скорее компрометируются. Диагностировать взгляды и предпочтения пангерманца-слависта не сложно не только по качеству, но и по отбору литературы и вообще проблем, представлявшихся ему по-настоящему важными. Именно этим вызывается место, отведенное автором громогласному развенчанию панславизма, в котором он недалеко ушел от своих русофобствовавших коллег. Вероятно, члену Пангерманского, Флотского, Колониального (а впоследствии Общества восстановления рейха) союзов было попросту сложно представить, что в России имеют место меньший накал и влияние зконационалистических воззрений, чем в упивавшейся своими успехами Германской империи. Как и во многих других случаях, здесь вполне оправдался принцип «врачу, исцелися сам!». Однако всем скептикам и критикам хотелось бы порекомендовать для сравнения работы основных оппонентов Хётча, выходившие в 1910-е гг. и пользовавшиеся не меньшим авторитетом и популярностью. Перевод их на русский язык, однако, не состоялся, как и академическое переиздание на немецком, и едва ли последует когда-либо в будущем, что поставит точку в вопросе о победе в схватке за понимание и согласие потомков.
Если же этот прогноз не оправдается, и читающая по-немецки публика всерьез погрузится в изучение заявлений Халлера, Рорбаха, а то и Шиманна, то это можно будет диагностировать как важнейшее доказательство полной неспособности усвоить уроки всего XX и начала XXI веков. Общая оценка монографии Хётча должна складываться не только из необходимых поправок на опыт истекшего столетия и сложность работы всякого историка современных ему событий, особенно в условиях тяжелейших информационных ограничений военного и революционного времени. При всей индивидуальности восприятия и образовательного фона можно с уверенностью говорить, что ряд проблем в этом общем обзоре Российской империи начала XX в. и ее общества раскрыт значительно более качественно и последовательно, нежели принято в современной российской (не говоря о почти недоступной русскому читателю германской) образовательной и даже специальной научной литературе. В первую очередь — социально-экономические процессы в русской деревне до и в ходе столыпинских реформ, а также ряд аспектов урбанизации в период бурного развития российского капитализма. Интересен взгляд со стороны на оправданность и логику социальной, финансовой и колониальной политики российского правительства. Очевидны глубокий интерес и симпатия автора к русской литературе (но не к другим направлениям духовной жизни), ей он решительно приписывает ту общественно-политическую роль, смысл и драму развития, о которых с каждым поколением в самой России помнят все менее. Но, по-видимому, более всего любой русскоязычный читатель заметит рассуждения общего характера об особенностях функционирования любых государственных и общественных институтов в России. Традиционно интересными будут рассуждения о неэффективности любых благих и, в замысле, рациональных проектов преобразований, о причинах крайней громоздкости создаваемых во все имперские времена управленческих структур, о всех тех неевропейских чертах и качествах жителей России, что всегда бросались в глаза стороннему наблюдателю, а у носителей специфического менталитета вызывали в лучшем случае недоуменное пожатие плечами, ведь за пленкой «нормальности» анализировать себе подобных крайне сложно. Примеры того, что показалось интересным, необычным или, наоборот, подтверждающим личные убеждения и смутные догадки независимым взглядом со стороны, можно приводить долго, однако отбор пунктов в эту категорию следует оставить читателям любого уровня исторического образования и интересов.
При переводе стремились сохранить аутентичность не только содержания, стиля и манеры изложения, но и оформления текста, ведь ее детали могут многое сказать не только об эпохе создания, кругозоре автора, но и об общей культуре норм, принятых в академическом сообществе зарубежных славистов и россиеведов. По современным меркам книга «застряла» примерно на полпути между научно-популярным и справочным изданием или тематическим сборником статей. Автор отнюдь не ставил своей задачей академическое издание, а потому был сдержан в рекомендациях научной литературы. Ради сохранения общей тональности и жанра книги при комментировании придерживались того же стремления. Научно-справочный аппарат оригинала, включая список литературы, не только отражает особенности вкусов автора, но и многое говорит о готовности распространения принятых в Европе норм и обязательств на русских авторов и их интеллектуальный багаж. Отсюда многочисленные неточности в оформлении, явное игнорирование нюансов русской ономастики, совершенно неожиданная на русский взгляд небрежность истого немца в бюрократических и деловых подробностях. Почти трогательно выглядит стремление автора, прекрасно осознававшего слабое знание славянских языков немецкими читателями, передать хотя бы фонетику специфических терминов, что доказывает, что славянские языки он действительно полюбил. В этом можно увидеть и вполне практическую цель еще довоенного времени, сохранившуюся у автора в ожидании будущего тяжелого, но неизбежного примирения Германии с Россией: книга Хётча должна была помочь германским специалистам в различных областях овладеть хотя бы базовой терминологией социально-экономической и правовой сферы страны, в которой они смогут рассчитывать на блестящее будущее.
Все эти особенности были сохранены намеренно, сопровождены соответствующими комментариями, либо и вовсе оставлены в своей наглядности ради принципа sapienti sat. Для того, чтобы не искажать впечатления о круге упоминаемых самим автором лиц, был оставлен без дополнений и даже необходимых уточнений (из-за неполноты исходного варианта) указатель имен. Добавление к нему всех тех, кого дополнительно пришлось упомянуть в комментариях переводчика, искусственно повысило бы детализацию научно-справочного аппарата. Поскольку сам автор во 2-м издании своего труда отказался от целого ряда приложений (хронологической таблицы, обзорных карт), то и в данном издании от воспроизведения их по 1-му изданию воздержались. Можно полагать, что последний и самый качественный взгляд из Германии на Российскую империю авторства пангерманца, русофила, сотрудника Генерального штаба, консерватора и лучшего из германских историков-славистов XX столетия заслуживает подобного внимания не только к его достоинствам, но и недостаткам. Написать из-за линии фронта портрет последнего десятилетия России эпохи Романовых лучше О. Хётча мог бы только сам Хётч, а это обязывает к точности и в восприятии, и в передаче.
Л.В. Ланник
[1] См.: Voigt G. Otto Hoetzsch 1876–1976. Wissenschaft und Politik im Leben eines deutschen Historikers. B., 1978. С некоторыми оговорками можно признать биографией О. Хётча и 2-томную работу, вышедшую в Западном Берлине накануне объединения Германии: Liszkowski U. Osteuropaforschung und Politik. Ein Beitrag zum historisch-politischen Denken und Wirken von Otto Hoetzsch: 2 Bde. B., 1988.
[2] См., напр.: Haar I. Osteuropaforschung und «Ostforschung» im Paradigmenstreit: Otto Hoetzsch, Albert Brackmann und die deutsche Geschichtswissenschaft // Hundert Jahre osteuropäische Geschichte / hrsg. von D. Dallmann. Stuttgart, 2005. S. 37–54. Из отечественных специалистов следует отметить вклад А.Г. Дорожкина, уделявшего большое внимание германской историографии именно тех вопросов, что наиболее волновали О. Хётча при изучении поздней императорской России.
[3] Hoetzsch O. Rußland. Eine Einführung auf Grund seiner Geschichte von 1904 bis 1912. B., 1913.
[4] См. дуэль в публицистике: Haller J. Die russische Gefahr im deutschen Hause. Stuttgart, 1917; Hoetzsch О. Russische Probleme: die Entgegnung auf J. Hallers Schrift „Die russische Gefahr im deutschen Hause“. B., 1917.
[5] См.: Hoetzsch O. Katharina die Zweite von Russland. Eine deutsche Fürstin auf dem Zarenthrone des 18. Jahrhunderts. Leipzig, 1940.
[6] См., подр.: Kowalczuk I.-S. Legitimation eines neuen Staates. Parteiarbeiter an der historischen Front Geschichtswissenschaft in der SBZ/DDR 1945 bis 1961. B., 1997.
[7] Berthold W. Die Wandlung des Historikers Otto Hoetzsch. Sein Beitrag zur Entwicklung eines fortschrittlichen Geschichtsbewußtsein 1946 // Zeitschrift für Geschichtswissenschaft. 1966 (14). Hf. 5. S. 732–744.
[8] Hoetzsch O. Grundzüge der Geschichte Rußlands. Stuttgart, 1949.
[9] Именно Менерт смог добиться переиздания хотя бы одной из работ Хётча в Западной Германии в 1960-х гг.: Hoetzsch O. Rußland in Asien. Geschichte einer Expansion / Mit ein. Vorw. von K. Mehnert. Stuttgart, 1966. О Менерте см., подр.: Баринов И. Клаус Менерт: знаток русской жизни между двумя тоталитаризмами // Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры. 2020. № 1–2. http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/–inhaltruss33-34.html
Добавить комментарий