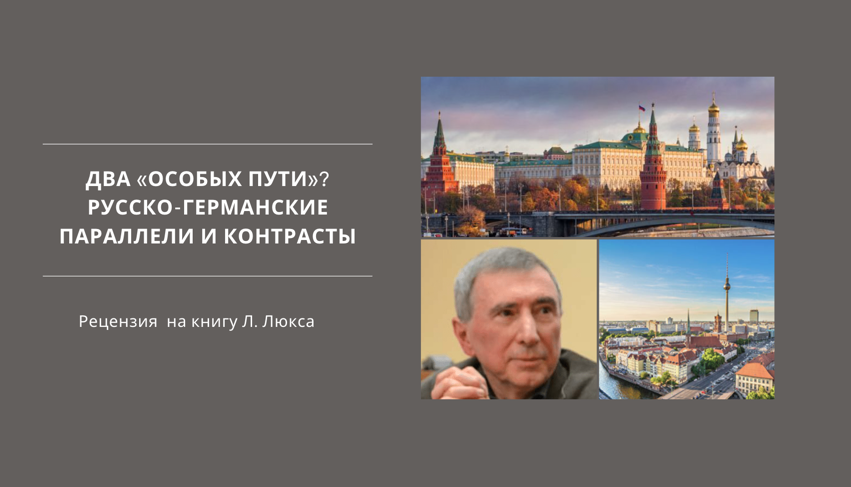
Уважаемые коллеги, представляем вашему вниманию рецензию д.и.н., профессора ЯГПУ им. К.Д. Ушинского Оксаны Сергеевны Нагорной на книгу немецкого историка Л. Люкса «Два особых пути? Русско-германские параллели и контрасты (1917-2014). Сравнительные эссе».
Словосочетание «особый путь» (Sonderweg) давно переросло значение актуальной публицистической метафоры и по праву претендует на статус предмета увлекательной истории понятий (Begriffsgeschichte). Мигрируя между идеологией и наукой, из одного национального нарратива в другой, образ уникального исторического пути выступает в разных контекстах объяснительной моделью и якорем идентичности, причиной ксенофобских установок и препятствием для восприятия интеграционных парадигм. И в русской, и в германской истории двадцатого столетия конструкция «Sonderweg» сыграла свою преимущественно негативную роль. Хотя Леонид Люкс не уделяет внимания вопросам исторической семантики понятия, именно данная метафора становится для него нитью, связующей достаточно разноплановые аналитические сюжеты. Рецензируемая книга представляет собой опубликованные ранее и собранные под одной обложкой статьи и комментарии автора, посвященные сравнительному анализу российской и германской истории. В центре анализа находится межвоенный период, вторая половина ХХ в. и начало ХХI присутствуют в виде исторических экскурсов и отсылок к современной ситуации. Заявленный в заголовке публикации эссеистический характер позволяет рецензенту отойти от детального обсуждения всех сюжетов книги и сконцентрироваться на сквозных темах.
Одним из ключевых вопросов авторского анализа является трансфер идей между Германией и Россией, причины принятия или отторжения различных мировоззренческих моделей, утопических конструкций и политических практик. Исходным посылом и интерпретационной призмой авторского анализа является принадлежность немецких концепций к европейской культуре (брутальным исключением здесь является нацизм) и имманентно присущая русским духовным поискам инаковость. Детальный анализ не только самих идеологем и нарративов, но и контекстов их возникновения и бытования позволяет автору создать оригинальные объяснения, почему те или иные идеи не прививались на немецкой или российской почве, несмотря на периодически интенсивное культурное сотрудничество двух стран, наличие множества транснациональных посредников, плотных профессиональных и неформальных сетей. Безусловно наиболее глубоко разработанным тематическим полем для автора является идейный багаж русской эмиграции – феномена, возникшего в межвоенный период на стыке европейских трансформационных сдвигов и катастрофы «русского исхода». Автор отмечает, что уникальные идеи евразийцев, рожденные русскими интеллектуалами в европейском контексте кризиса парламентаризма и представлений о закате западной цивилизации, не могли приобрести популярности в СССР вследствие «разрыва опыта» (Erfahrungsbruch). С другой стороны, несмотря на сходства некоторых положений евразийства с трудами идеологов немецкой консервативной революции, они не были восприняты в Веймарской республике. Ее интеллектуальные и политические круги были позитивно или негативно увлечены советским экспериментом. В то же время относительный и непродолжительный ренессанс евразийства стал возможен в России именно в момент распада Советского Союза на фоне поиска национальной идеи и интенсивной рецепции зарубежных мировоззренческих концепций. Повторной маргинализации сторонников евразийства способствовал в 2000-х стремительный «консервативный поворот» к эксплуатации советского наследия в современной России.
Значимую роль в процессах трансфера идей, по мнению автора, играет закрытый характер тоталитарных мировоззренческих концепций. В книге этот феномен сравнивается с мышлением шизофреника. К примеру, описывая большевистские видения мироустройства, автор подчеркивает их одержимость идеей прогресса, основанную на представлениях об экономической и культурной отсталости царской России. Несмотря на включенность большинства идеологов большевизма в процессы трансграничной политической коммуникации, к моменту расхождения между европейскими и российскими революционерами марксизм в представлениях В. Ленина сложился как завершенная мировоззренческая система, не допускающая никаких корректив. Фатальное игнорирование происходящих изменений помешало большевикам осмыслить значение европейского культурного пессимизма по отношению к идеалам Просвещения, его широкую социальную базу, усилило заблуждения по отношению к послевоенным проявлениям европейской политической культуры.
Подчеркивая генетическое родство тоталитарных идеологий межвоенного периода, одновременно выросших из эпохи Просвещения, автор указывает на разницу концептуальных оснований. Если большевики на своих знаменах писали лозунги равенства и защиты обездоленных, то для фашизма ключевыми ориентирами стали естественный отбор и поддержание иерархии. Исходные условия определили и особенности самих диктаторских режимов: если нацизм в Германии возник в условиях кризиса демократии, то в России большевистский режим стал результатом ее фактического отсутствия.
Большое внимание в разделах книги уделяется роли взаимных перцепций различных философских направлений, партий и политических режимов. Реконструируя взаимовосприятия современников событий, автор пытается понять основания и идеологические установки противоположных сторон, объяснить причины практических мер во внутренней и внешней политике. К примеру, неверная оценка большевиками европейского фашизма и его деятелей в межвоенный период была обусловлена доминированием образа социал-демократии как основной угрозы. Изъян теории заговора привел к пресечению со стороны Коминтерна всех попыток немецких коммунистов наладить сотрудничество с СДПГ. Борьба против воображаемых противников: финансового капитала и социал-демократии, неспособность провести различия между итальянскими фашистами в лице готового к компромиссам Муссолини и германскими нацистами в лице безоглядного фанатика Гитлера препятствовали эволюции закрытых мировоззренческих установок советских партийцев. Относительные изменения, по мнению автора, наметились во внешнеполитических представлениях Сталина лишь в 1934-35 гг.: попытки сближения с Францией через вступление в Лигу наций предпринимались параллельно с поисками возможных контактов с Гитлером. Соответственно, пакт Молотова-Риббентропа, по мнению автора, стал единственно возможной реакцией советского вождя на политику умиротворения (appeasement policy) западных держав.
Лишь при анализе Второй мировой войны, в частности, Сталинградской битвы, автор отходит от интерпретационной схемы противостояния двух диктаторов и выводит на сцену третьего актера – советское общество, переживавшее кратковременный период отхода государства от радикальных практик террора и дисциплинирования населения. Оплаченное миллионами жертв советского народа спасение человечества, укрепило, по мнению автора, основы режима. При этом, осознаваемая интеллектуалами оттепели неотделимость победы от сталинской диктатуры стала родовой травмой мемориальной культуры о Великой Отечественной войне.
Именно при оценке современного периода автор достаточно часто переходит из области научного анализа в сферу эссеистической прозы и воспроизведения дискурса успеха европейской интеграции. По его мнению, после 2014 г. политики и общественность Европы утратили понимание происходящего в России. Причиной тому стала реинкарнация национализма в России на фоне завершившегося в европейских странах перехода к постнациональной парадигме. Однако, подобные авторские заявления кажутся излишней и преждевременной генерализацией событий в условиях возрождения в европейских миграционных дебатах сугубо национальной риторики, а также выхода Великобритании из состава Евросоюза.
Безусловно, и для специалистов, и для широкой публики книга станет познавательным и увлекательным чтением. Хотя русского читателя часто не покидает ощущение, что, при сравнении двух «особых путей» русский путь выглядит особым вдвойне. К примеру, в поиске ответа на вопрос, почему в России так быстро завершилась десталинизация 1990-х гг., автор обращается к расхожей цитате Федора Тютчева о невозможности понять Россию с помощью рационального мышления и необходимости сохранять веру в нее и в ее «особенную стать». Эта удивительная даже для научных дискуссий устойчивость удобных образцов толкования, по-видимому, обусловлена их совпадением с «горизонтом ожиданий» целевых аудиторий, а также использованием привычных для них каналов трансляции и медиа. В книге это продемонстрировано на примере (мис)перцепции на Западе хрущевских и горбачевских внешнеполитических посланий. Опираясь на изданные в Германии публицистические труды Горбачева, явно написанные для западного читателя, автор приходит к выводу, что лишь последнему лидеру СССР в отличие от предшественников удалось совершить переход от авторитарных перегибов сталинизма к универсальным ценностям прав человека. По мнению автора, восприняв подобные послания как генеральную тенденцию, западные страны упустили открывшийся им уникальный шанс более плотной интеграции России в свое сообщество. Публично упиваясь осознанием победы в Холодной войне, они противодействовали тем самым демонтажу дискурсивных и институциональных структур биполярного противостояния, сохранив для России лишь альтернативу продолжения своего особого пути.
Выходные данные книги:
Luks L. Zwei “Sonderwege”? Russisch-deutsche Parallelen und Kontraste (1917-2014). Vergleichende Essays. Stuttgart: ibidem-Verlag, 2016. — 289 S.
Немецкоязычный вариант данной рецензии был подготовлен для журнала “Jahrbücher für Geschichte Osteuropas”. Цит.: Nagornaja, Oksana: review of: Leonid Luks, Zwei “Sonderwege”? Russisch-deutsche Parallelen und Kontraste (1917–2014). Vergleichende Essays, Stuttgart: Ibidem-Verlag, 2016, in: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas / jgo.e-reviews, jgo.e-reviews 2019, 4, p. 55-59, https://www.recensio.net/r/ffc412db81f94c05a9063f9ddfc2bb2e
Добавить комментарий